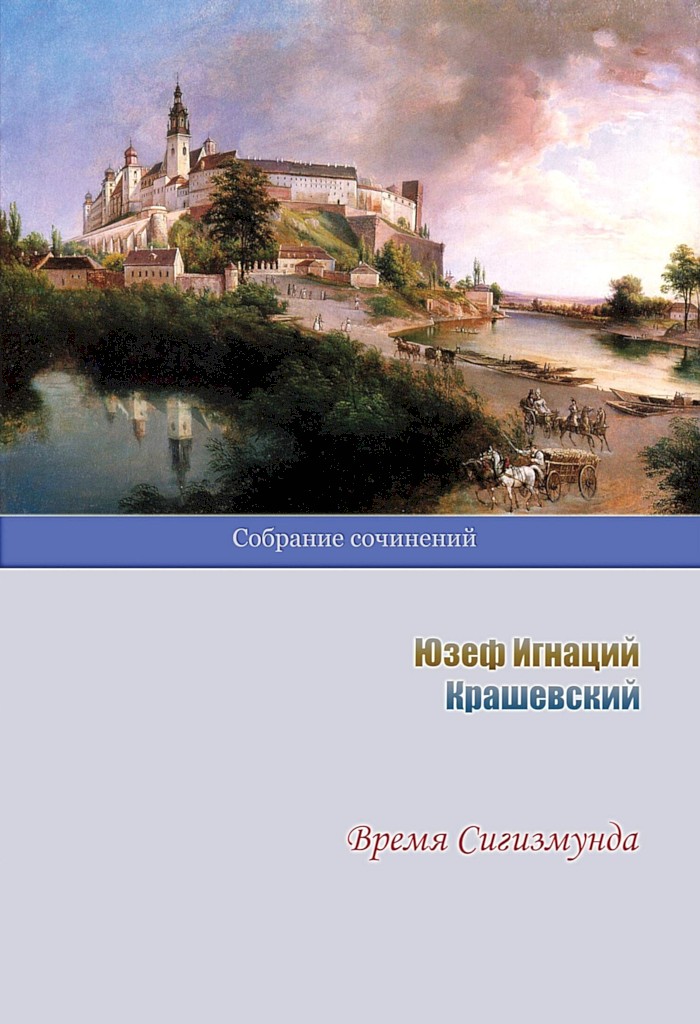один во всей этой толпе оживит их еще раз — он говорит это с такой силой и уверенностью, что смерть становится ему безразлична. По дороге домой, в свою новую жизнь огромного труда, воплощения, ему в голову вдруг приходит мысль, что его может задавить первый попавшийся трамвай, и это кажется ему невыносимо чудовищным. Как мы знаем, большая часть последнего тома Пруста, вышедшая после смерти автора и без его корректуры, была написана им раньше всех остальных частей, что лишний раз доказывает, что вершина его произведения, заключение, было одновременно и его личной исповедью, и началом.
Я вижу, что, говоря о Прусте, заполняю мою лекцию деталями его романа и личной жизни, но почти не показываю, а еще менее разъясняю, в чем именно состоит новаторство, открытие, суть его произведения. Не располагая ни одной книгой и, что принципиально важно, не обладая никаким философским образованием, я могу лишь коснуться этой существенной темы. Нельзя серьезно говорить о Прусте в отрыве от философских течений того времени, не упоминая философию Бергсона, его современника, сыгравшего большую роль в его интеллектуальном развитии. Пруст слушал лекции Бергсона, которые в 1890–1900 годах пользовались огромной популярностью, и, если я правильно помню, был лично знаком с ним. Даже название произведения Пруста показывает, что его автор был одержим проблемой времени. Именно о времени рассказывал Бергсон с философской точки зрения. Я читал много исследований на тему проблемы времени у Пруста. Честно говоря, из них я помню только многократные утверждения, что именно в этом отношении творчество Пруста имеет особое значение. И еще здесь нужно назвать главный тезис философии Бергсона. Бергсон утверждал, что жизнь непрерывна, а наше восприятие прерывисто. Поэтому наш разум не может сформировать адекватного представления о жизни.
Интуиция более адекватна жизни, чем разум (интуиция человека — эквивалент инстинкта животного). Пруст пытается победить прерывистость восприятия с помощью непроизвольной памяти, с помощью интуитивного построения новой формы и нового образа, которые создадут у нас впечатление непрерывности жизни. Все длинные романы, в большей или меньшей степени отмеченные влиянием прустовской формы, мы называем теперь «роман-поток». Но ни один из них не соответствует этому определению в той же мере, в какой оно применимо к «В поисках утраченного времени». Я постараюсь объяснить это сравнение. Дело не в том, что несет с собой река: бревна, труп, жемчуг, представляющие собой отдельные составляющие части реки; дело в самом течении, длящемся без остановки. Читателя Пруста, входящего в кажущуюся однообразной воду, захватывают не факты, а те или иные герои, бесконечная волна движения самой жизни. Первоначальный план Пруста, касающийся формы публикации его романа, не мог быть осуществлен. Он хотел издать это огромное «целое» в одном томе, без полей, без деления на абзацы, части или главы. Идея показалась смешной даже самым образованным издателям Парижа, и Прусту пришлось раздробить свой роман на пятнадцать или шестнадцать частей, с названиями, охватывающими две или три части. Но ему все-таки удалось заставить издателей сделать одну вещь, которая с точки зрения структуры книги была тогда новаторской. Ни одна часть не издана целиком, без захвата фрагментов соседних частей. Книги намеренно обрываются в произвольных местах, и, как кажется, их объем регулируется скорее количеством страниц, нежели развитием той или иной темы. Надо добавить, что сами темы так переплетены между собой, что любой обрыв кажется просто вынужденной технической формальностью. Тома напечатаны очень тесно, мелким шрифтом, с узкими полями и без абзацных отступов[15]. Во всех пятнадцати томах мы видим лишь несколько делений на главы, расположенных безо всякой гармонии и логической связи с делением натома[16]. Этой странной формой издания Пруст добивается эффекта непрерывности и незавершенности потока своего произведения. Само построение предложений революционно для тогдашнего литературного стиля, краткого и сжатого. Предложения бесконечно длинные, до полутора страниц. Страшный сон для любителей «французского стиля», который, согласно известному клише, должен обязательно отличаться краткостью и ясностью. У Пруста предложения, наоборот, запутанны, полны воображаемых скобок и скобок в этих скобках, полны самых отдаленных во времени ассоциаций, метафор, ведущих к новым скобкам и новым ассоциациям. Пруста обвиняют в том, что это не французский стиль, а немецкий. Видный немецкий критик Курциус[17], большой поклонник Пруста, также отмечает германские элементы прустовской фразы. Обратите внимание, как Пруст реагирует на это. И обратите внимание, какой невероятной литературной культурой он обладает. Пруст утверждает, что родство его фразы с немецкой — не случайность и не ошибка, но что современное немецкое предложение более всего напоминает латинское. А с латынью гораздо глубже связан не немецкий, а французский язык XVI века, к которому его, Пруста, стиль отсылает. Добавим от себя, что знаменитая краткость и ясность французского стиля — явление сравнительно молодое. Оно зарождается в энциклопедическом и рационалистическом XVIII веке, когда французский был языком скорее разговорным, нежели литературным. Немецкий же язык развивался в разрозненных центрах и в основном в письменной форме. Французский, наоборот, оттачивался в одном городе — в Париже, который, как отмечал уже Гёте, притягивал к себе всех интеллектуалов и благодаря этому стал уникальным культурным центром. Бой-Желенский[18], польский переводчик Пруста, которому удалось перевести более половины произведения писателя до начала войны в 1939 году и многие страницы которого можно отнести к шедеврам польской литературы, еще сильнее увеличил разрыв между первоначальным планом Пруста и его польским воплощением. У меня был случай обсудить эту тему с Боем, и он защищал свою позицию, настаивая на том, что в случае Пруста намеренно сделал текст более ясным не вопреки, но во благо оригинала. Пруст хотел быть популярным. Было бы ошибкой превращать его в писателя для узкого круга, нужно редактировать его таким образом, чтобы он становился как можно более удобочитаемым. Впрочем, ведь Пруст согласился изменить свой первоначальный план (издание одним томом) во Франции. Если говорить о Польше, то огромная фраза Пруста там неприемлема. За неимением других средств польский язык вынужден злоупотреблять словами «który, która»[19]. Но Бой в своем переводе пошел еще дальше. Он издал тома Пруста в более читабельном виде, с абзацами, диалогами, не хаотически вплетенными в текст, а расположенными строчка под строчкой. Количество томов в переводе увеличилось вдвое. «Я пожертвовал изощренностью ради самого главного», — утверждал Бой. В результате Пруст с момента публикации в Польше немедленно стал легко читаемым писателем, а в Варшаве любили шутить, что стоило бы сделать обратный перевод с польского на французский, чтобы он обрел наконец популярность во Франции.