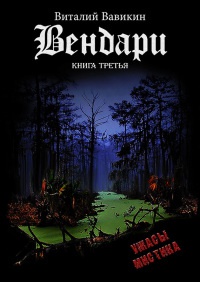Но уже через полгода снова она понесла и так намучилась в тот раз, что дочку назвала Истомой. Власу Дарена сказала, что выбрала это имя на память о том сладком июльском томлении, когда они жарко любили друг друга. Не рассказать, не растолковать мужику, как она истомилась в бане, пока жизнь новую на белый свет приводила.
А потом Дарена совсем выдохлась, уже не притворялась и никого не обманывала — ни себя, ни мужа. Следующих детей назвали Некрас, Невзор, Неждана и Нелюб, намекая древним богам, что столько младенцев Власу и Дарене уже не надобно.
Бабам деревенским, любопытным пуще кошек, отвечала Дарена, что сон ей был, — мол, надо теперь плохие имена детям давать, чтобы нечисть от них отвести. За Некрасом да Невзором, поди, ни одна мавка не увяжется, они пригожих парней ловят.
Пятнадцатую дочь мать хотела назвать и вовсе — Неволя, представляя, как свяжет ее опять дите новорожденное по рукам и ногам. Но боги, наконец, услышали ее просьбы, кощунством, видать, посчитали, прогневались на Дарену. В апреле гром над Поспелкой полдня гремел, кидал Перун на землю злые молнии, спалил грушу на дворе, что еще дед Беляй посадил, когда Дарена народилась.
И пятнадцатому ребенку в семье Власа и Дарены не суждено было появиться на свет. Материнскую душеньку Неволя жадно с собой забрала, оставив сиротами девять других детушек.
До этого Вадим отмучил мать своими криками с полтора года и умер от какой-то детской болезни еще до рождения Нежданки. Некарас, Невзор и Нелюб словно поняли, что здесь им не рады, и уходили к праотцам рано, прямо из колыбели, быстрее и легче, чем Вадим. По ним не долго плакали, сильно не горевали. Когда утонул ясноглазый вихрастый Лучезар в свое шестое лето, Дарена кричала израненной птицей — первых девятерых детей она сильно любила. Почему, почему забрали самого смышленого да ласкового сыночка?!
А чужая, нелюбимая Неждана-подкидыш все жила и жила. Она пряталась за деда от колючих соседских взглядов, а мать с отцом и вовсе сквозь нее смотрели. Собирала девчонка камушки в пыли вместе с курятами, хмурила бровки и молчала, ни на что не жаловалась.
После нее мать беременела еще два раза, последними родами и померла.
Так и не нашлось для младшей дочери ни капли материнской любви в уставшем, истерзанном сердце Дарены.
Влас очень скоро женился на Сороке-перестарке, и за следующие восемь лет Сорока нарожала мужу еще семерых детей.
Она уже и не надеялась, что косу девичью когда-нибудь расплетет, узнает, как сладок мед на губах мужа, да в глазенки детишкам своим заглянет. Если бы Щекочиха не поторопилась тогда с приворотом, то увели бы и Власа, как коня княжеского златогривого, в чужое стойло. А когда горе горькое у человека, страдания терзают душеньку, что черные вороны клюют, — с таким проще сладить, волю его переломать-перемять, черную нить меж пальцами заплести.
Чем за то платила Сорока, сама не ведала. Она тогда не серебряный рубль, лисью шкурку да бусы за счастье бабье отдала, а душеньку свою с чужой насильно переплела, да еще новых душ наплодила. Теперь они все в этой связке колдовской ведьминой ниткой повязаны — так просто никого и не отцепишь.
Сорока даже думать не хотела, с чего та нитка прядена — из тьмы кладбищенской пополам с тленом или с волка-оборотня начесана, или у вдовицы из платка выдернута? Вдруг она от нищего — с его обмоток гнойных на культях? Может, у палача в столице выкуплена с его одежи, что кровушкой людской пропитана? Али попросту волосья с себя ведьма дерет и в обряд вплетает? Не с того ли у Кокошки и плешь во всю голову?
Но пока от радости своей великой, что косу девичью надвое поделила да бабий убор на голову водрузила, не замечала Сорока, как Влас меняется, сохнет и горбится, все чаще в чарку с настойкой заглядывает, а хозяйство их тем временем в упадок приходит.
Своих чад, особенно Богдашу, Сорока любила без памяти, Власовых кое-как терпела, ждала, когда начнут выходить девки замуж, да и парней подросших за порог подталкивала — уговорила Вячеслава и Всеволода в дружину к князю податься, как подрастут. Жеребят новорожденных для них на дворе оставили, ростить будут, под седлом ходить научат. Можно было продать коньков на ярмарке, как раньше делали, но в дружину княжью со своим конем только берут. Еще и кольчуги им справить придется, да что поделаешь. Зато сразу два лишних рта со двора — долой. А коли убьют братьев на войне, так и забот у Власа поубавится.
А главное, на что Сорока надеялась — смекнула она своим умишком, что, коли с их двора двух дружинников князю снарядят, так и не дойдет черед воевать до ее сыночков — Богдаши, Удала и Потехи.
Если хворый седьмой мальчонка выживет, будут его Авоськой кликать — так Сорока решила.
Не ведала она только, не видела своим слепым материнским сердцем, как черная ведьмина нить, которой она Власа опутала, уже ко всем ее деткам своими концами тянется — кого за ручку, а кого за ножку держит. Богдаше ненаглядному давно, еще с колыбели, горлышко оплела, от того он, родимый, и задыхается. А Прекрасу ясноглазую — через пупок за нутро выворачивает, не рожать ей детушек.
Поначалу Сороке стыдно перед людьми было, не хотела злой мачехой на деревне прослыть, так что, старалась делить калачи и яблоки моченые за столом почти поровну.
И только от Нежданы подбрасывало Сороку до полатей, как бешеная собака вдруг за ляжку тяпнет. Глянешь на девчонку, и саму как крапивой по лицу хлестнули.
А еще шептали со всех сторон, что дите нечистое, подменыш. Засыпуха — одним словом. То ли душу черти украли, то ли вообще ребенка подменили. Не принимало у Сороки сердце это ведьмино отродье, не вмещалось такое в разум — не могла мачеха со своим гневом и страхом перед нечистью никак совладать.
Сначала баба надеялась, что помрет скоро девчонка — чахлая совсем была, до двух лет и не ходила. А она вон уже одиннадцатый год как сорная былинка к свету тянется— тощая, длинная, волосы серые, что солома прошлогодняя, за лето до серебра выгорают. Подбородок