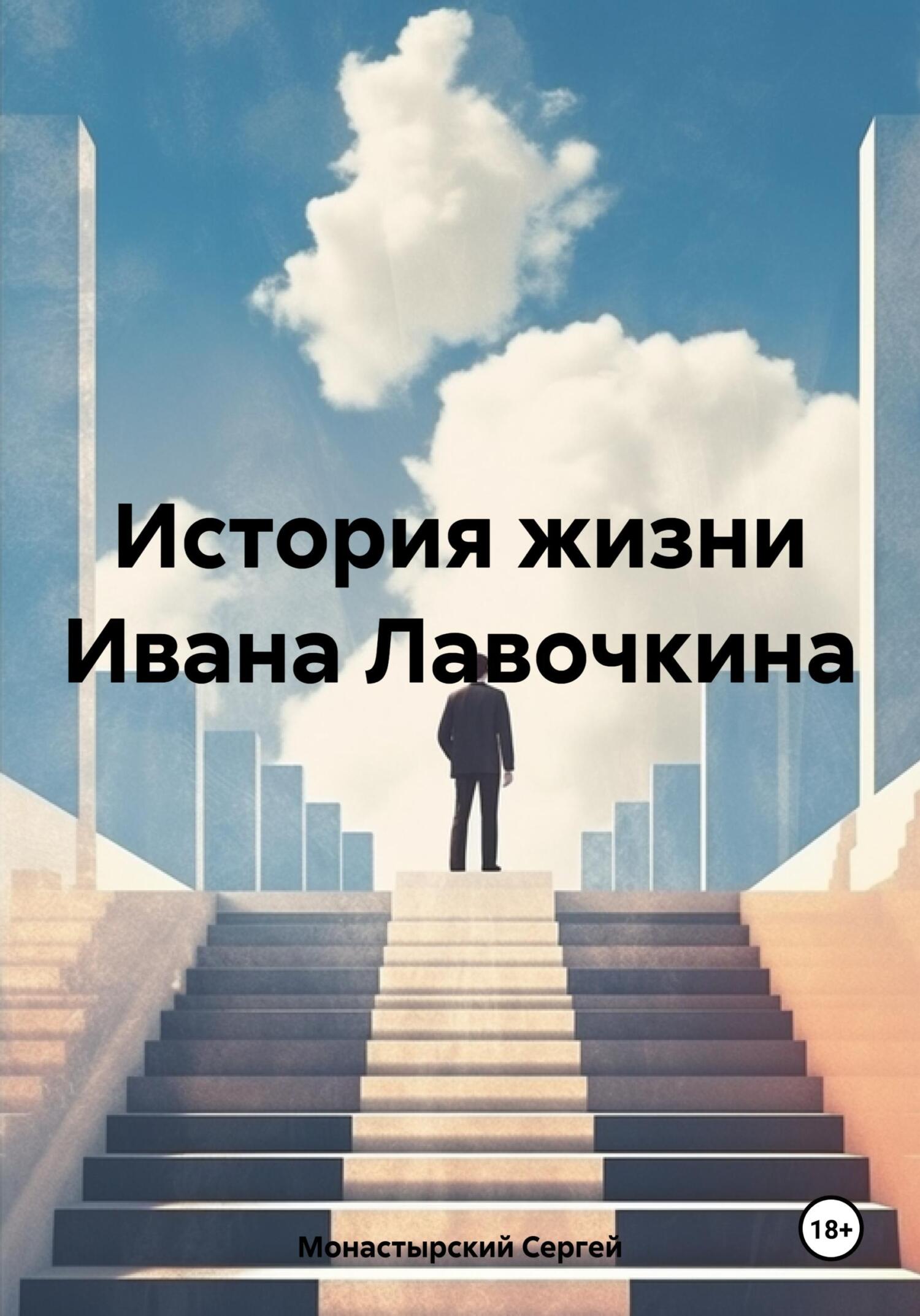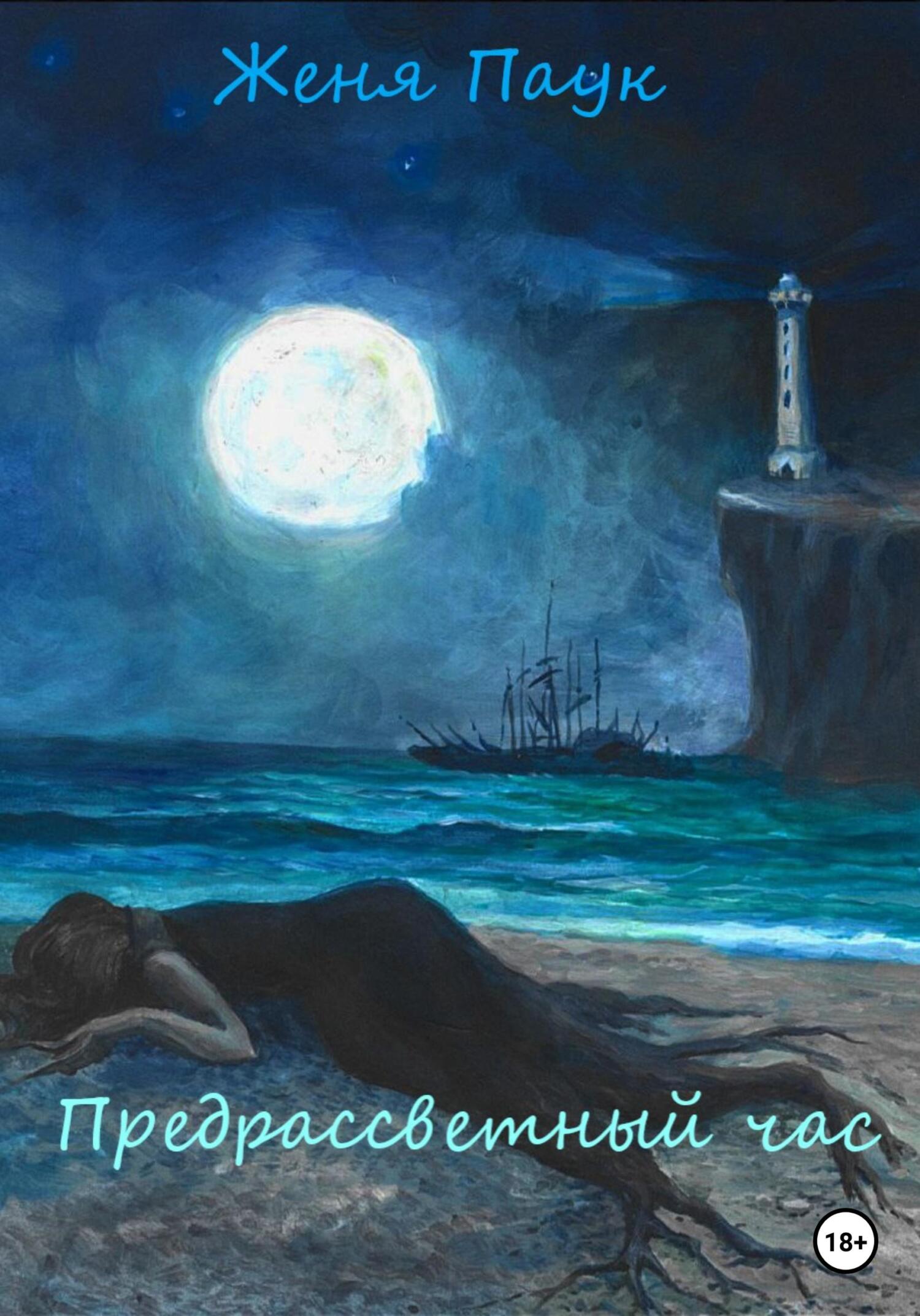вспомнил ее лицо! Забытое, потерянное памятью, оно надвигалось откуда-то из неясности, все приближаясь и приближаясь. Он увидел, как дрогнули ресницы, заморгали, сдвинулись коричневые веки. И серые глаза открылись: по-старчески блеклые, но ясные и чистые. Они просительно-требовательно смотрели на него. Во всем, что она видела в нем и что приблизило его к ней, не было той мягкости, которая должна бы быть у него, если бы это был он. В нем было что-то чуждое — и в том, как он стоял, и как держал руки, чуть вывернув наружу ладони, — это была привычка агронома, всегда возившегося с землей, и как склонял голову, совсем немного склонял, с достоинством, но все же не так, как делал бы он, если бы это был он.
— Ты Иштван? — спросила она. — Садись и прости меня, не могу приподняться — голова кружится. Но это пройдет. В непогоду я страдаю. Садись, Иштван, — повторила она вместо того, чтобы сказать «Саша». И заметила, как он с облегчением подвинул стул и сел к ее кровати, сел без суеты, как должен был бы сесть он, если был он. Она не сводила с него глаз, странно холодных и в то же время нестерпимо горящих последней надеждой. Наклонившись к полу, он достал что-то, завернутое в белую бумагу, из раскрытого загодя портфеля и, приподняв и показав ей, поставил на пол:
— Это Кекнелю, вино. Товарищ Ковачне, Ленке, говорила — ваше самое любимое. Его надо пить, оно лекарство, нет лучше лекарства.
— Спасибо, Иштван, — сказала она вместо того, чтобы сказать «Саша». — И Ленке передай спасибо. Славная она женщина. Ты говоришь по-русски?
— Нам мало надо слов. Кое-как меня научила товарищ Ковачне.
— Как ты доехал?
— Очень здорово. Самолет Малев. Хорошо! Провожала меня жена Маргит и ребенок. Как это: сын, дочка? Сын! Бела, это так его зовут.
«Какой молодец! — похвалила она его про себя. — Саша на его месте сделал бы то же самое. Но это не он. Саша узнал бы, заплакал, бросился ко мне. Маленький, он был такой ласковый… В чем ты обвиняешь его, безумная старуха? Твой сын однажды, совсем еще крохотуля, начал чужую жизнь, которая сделалась его жизнью. Но чего ты еще хочешь от этого человека? Чтобы он все начинал сначала? Прожил еще одну жизнь, не зная, станет ли она для него счастливой? Хочет ли он сам этого?»
— Я тебя узнала на снимке. Будто ты мой Сашка. Двадцать пять лет я ищу сына. Все глаза проглядела, думы все передумала…
Она замолчала, вопросительно глядя на него. Но подумала, осуждая себя: «Недоброе ты дело делаешь, старая. Зачем смущаешь его? Ах, тебе легче будет умирать? Но каково ему? Его жене Маргит, его мальчику Беле. Какое имя славное…»
Но против своей воли она спросила:
— Ты не узнаешь меня, Иштван? Да разве можно узнать! Саньке тогда было год и два месяца…
— На меня что-то нашло сейчас, Евдокия Савельевна… На меня всегда находило. Я слышал чьи-то слова. Деревья белые. Видел… не память, а за памятью… Не знаю, что это. К вам у меня большая-большая жалость…
«Это он! Сердце не обманешь. Он, Саня!»
Он увидел, глаза ее стали как у безумной. Чуть попятился. Евдокия Савельевна приподнялась и вдруг вспомнила про внука: забыла… где же внук?
— Саня, который час? — спросила она Иштвана, а тот не заметил ее оговорки. «Нет, не он, — возразила она себе. — Он походил бы на Сережу, а Иштван — нет. Я не смею, не буду ломать ему жизнь».
Между тем Иштван вскинул руку, взглянул на часы. Часы были красивые, наверно, золотые. Так тепло и неярко светился металл. И браслет аккуратно охватывал его смугловатую руку.
— Скоро восемнадцать, — нелегко выговорил он.
И тут она увидела на коже его руки по краю звончатого браслета темную родинку. У Саньки вот так же было на запястье несмываемое темное пятнышко. Как она забыла про него? «Но разве могло просяное семечко вырасти до такой горошины?» — спять усомнилась она. Но губы, едва шевелясь, проговорили:
— Родинка… его… твоя…
Глаза ее остановились на какой-то точке за окном, где лил и лил дождь, потом взгляд медленно и устало передвинулся на его лицо, лицо сына, ее Сашки. Маленький родной голубой стебелек, не сгоревший в огне границы. А теперь он, Иштван Немешкери, молодой мужчина с красивыми манерами, сдержанный, полный достоинства, самостоятельности и самоуважения. И, подумав так, она увидела, как Иштван стал отдаляться, уходить от нее, пока не стал крошечным Сашей с радостно-недоуменным лицом победителя, когда он, так давно это было, сделал первый шаг по земле.
«Скоро, вот сейчас, я умру, — подумала она, снова чувствуя себя плохо и видя перед собой какого-то совсем нового своего сына. — Смерть моя тут рядом. Я чувствую, какой от нее холод. Но я не сужу ее за то, что пришла. Она все же дала мне срок найти, увидеть мою кровинку, а могла бы и поторопить. А может, не торопила потому, что хотела сделать зло моему сыну? Мне-то что уж, мне-то досадить нечем. А Саньке — да. Ему пришлось бы разрушать все и все начинать сызнова».
— Саня, — сказала она, все еще цепляясь за гаснущее сознание и не заметив оговорки, которой она не хотела. — Живи, как жил, так тебе будет легче…
И стала проваливаться в нечто зыбкое, неосязаемое. Ее качало и уносило, погребая под что-то бесформенное, вновь выносило, чтобы дать еще глоток воздуха. В это время в комнату вошел Сергей, ведя под руку сына. Увидел неладное, бросился к ней.
— Мама, мама, что с тобой? — услышала она голос Сергея и очень ясно подумала, что это мог сказать Иштван. Но Иштван стоял молча, склонив голову.
— Она хотела говорить, — сказал он, — что я не Саша… Но она узнала, я все понял…
Губы матери опять трудно и скорбно задвигались:
— Сережа, прости: Иштван пусть будет Иштван…
Сергей не сразу понял смысл этих слов. Он готов был рассмеяться и сказать, что, конечно же, дело брата, как ему называться. Стоит ли об этом? Но стала бы об этом беспокоиться мать в такую минуту радости? И тут открылась перед ним вся трагическая глубина того, что она сказала: она отказывалась признать сына, которого так мучительно искала и ждала, отказывалась ради него же, его выстраданного счастья. Сергей и подумать бы об этом не смел и сейчас, поняв вдруг родившуюся новую трагедию, горестно воскликнул:
— Не лишай меня брата, мама… Иштван не хочет этого. Так, брат?
— Ты есть мой брат, Сережа. Это так, мама!
Но мать