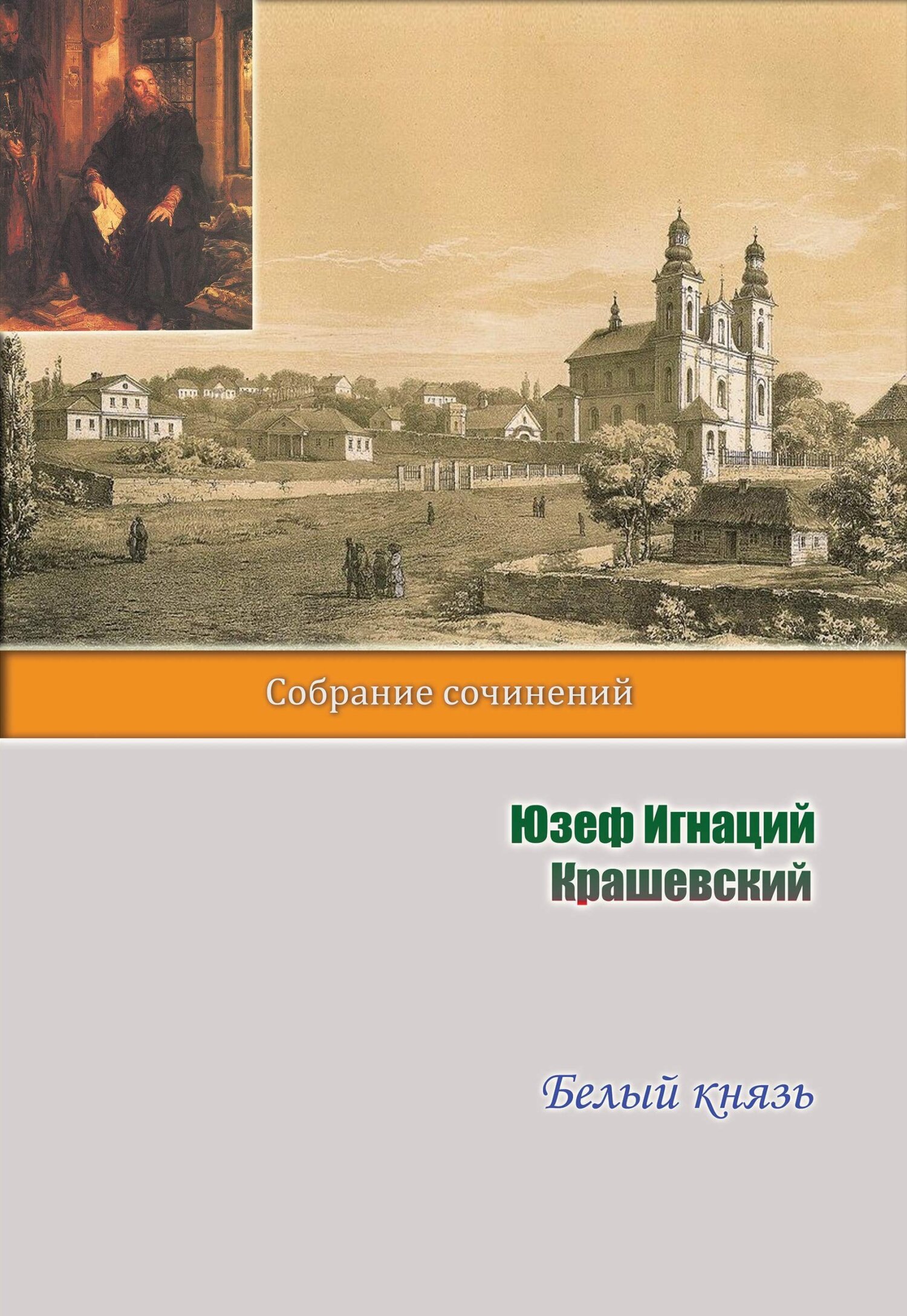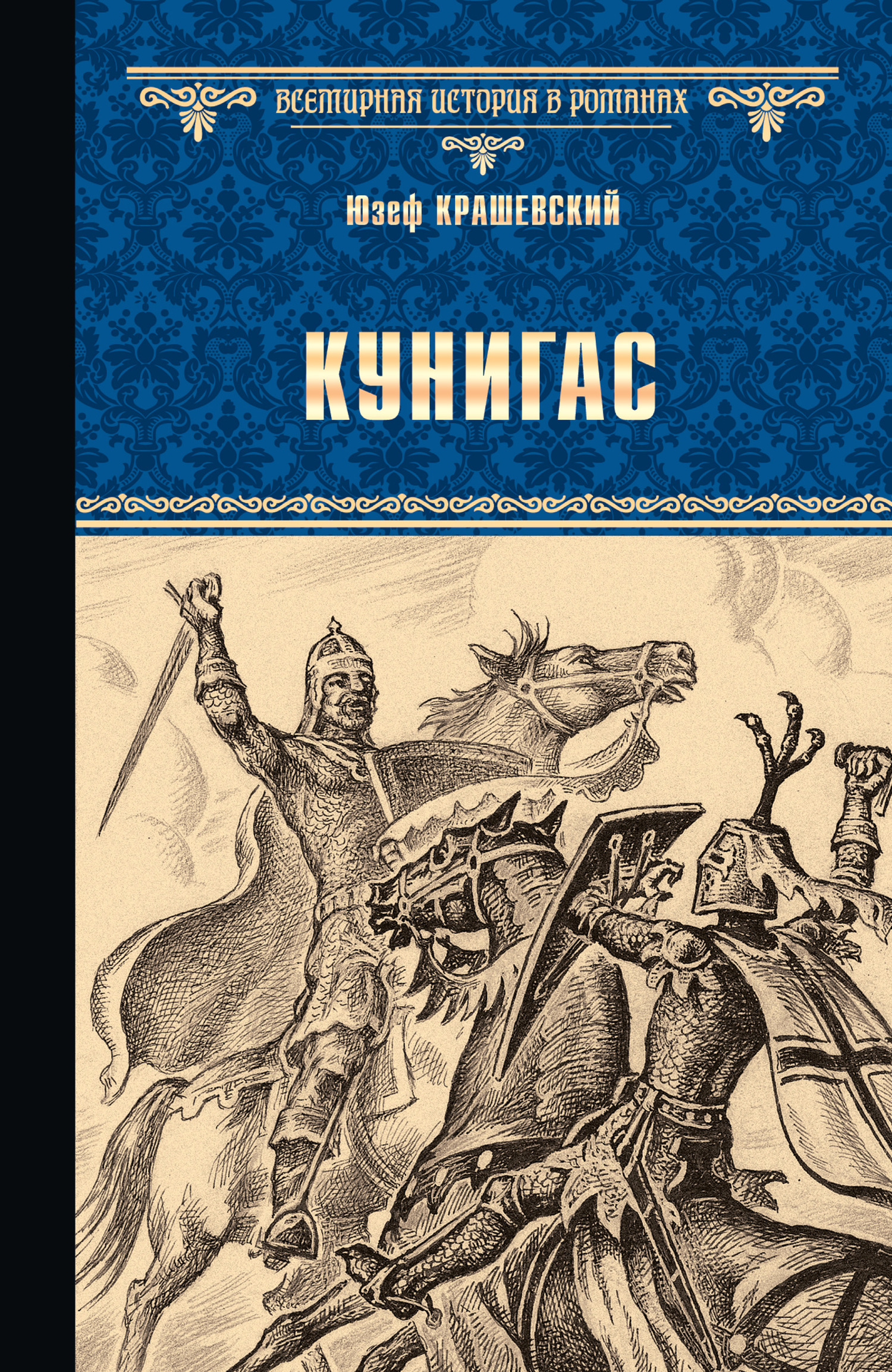площади…
Но тихо… Все разбежались по домам рассказывать о событиях.
У Ендреёвой двери закрыты, свет погашен; в первой комнате, как в могиле, в другой – на кровати Франек, около него кровь… мать в слезах, служанка и один товарищ с рассечённым лицом.
Двое раненых, а хуже всех ранено сердце матери, потому что должно бояться, как бы не постучал кто-нибудь в дверь, как бы не нашли Франка, рана которого есть доказательством вины. Остановили кровь, но за доктором послать невозможно, это было бы выдать себя… жандармы у дверей, полиция кружит и ищет виновных… Виноваты как раз те, которые пострадали, иных им доказательств не нужно. Правительство должно иметь виновников: будь что будет!
Ендреёва попеременно то летит к образу Божьей Матери, встаёт на колени и молится, то возвращается к сыну и целует его руку, перевязанную бинтами.
Франек был бледен, но ни шипел от боли… ради матери… улыбается, только слезы накручиваются на глаза; это рука, это правая рука, а чувствует, что ей уже владеть не будет – глубоко рассёк её палаш солдата.
Млот, раненный в голову, потоптанный конями, с растрёпанными волосами, хоть у него кровь льётся по щекам и стекает по шее, молчит, стиснул уста, а глаза его полыхают огнём… дрожит ещё неоконченной битвой. Обернул полотенцем голову и не думает о себе, думает…
– Много, много подавили, а сколько женщин! Сколько детей!
– Я видел женщину с отрезанной рукой…
– Я видел старичка, седые волосы которого валялись на камнях; он стонал, прося сострадания, жандармская лошадь давила ему грудь.
– Ради Бога, зачем это вспоминаете! – воскликнула, ломая руки, Ендреёва. – Достаточно того, что глаза видели, чего не забудет никогда сердце. О, дикие звери! Кони не хотели идти на людей, а они секли палашами безоружных. Но у меня тоже была радость, что горшок с кипятком бросила на голову какому-то псу, видела, как он схватился за голову и съехал с коня.
– А, пани, тихо! – прервала служанка. – Паничу ещё хуже слушать.
– Вы оскорбляете меня… Тихо уже, тихо!
– Поглядите-ка в окно, есть там стража? Нельзя ли, чтобы девушка выбежала за доктором? Или уже хоть за цирюльником?
– Цирюльник в другой каменице.
– Но за дверь высунуться невозможно.
– Нет, до завтра всё-таки ничего со мной не станет, а кровь остановлена.
Франек лгал, потому что красные пятна уже прошли сквозь несколько простыней и медленно падали с них капли на пол, но он должен был успокоить мать.
Кто-то выглянул в окно; везде стояли патрули, молчаливые, как статуи, на конях, какие-то чёрные фигуры сновали в тишине под домами. Старый Город был, очевидно, ещё под стражей, никто на улицу не отваживался выходить.
– В общем-то, я и в цирюльнике не уверена, – отозвалась Ендреёва, – я знаю, что он ходит брить какого-то генерала. Может, перешёл на стороны Москвы.
– Где же! – прервала девушка. – Я сама слышала, как он говорил, что, когда подбирается с бритвой к его бороде, аж рука у него дрожит, так хочется его ударить.
– Ну что, кровь? – спросила мать. – Ты очень бледный!
– Нет, нет! Я необычайно устал, выпил бы воды, – сказал Франек, находя голос в груди.
– Слушайте-ка, – воскликнул Млот, подумав. – Раздавленные ноги – это ничего, удар в голову – это мелочь, только очень заметная. Если бы вы мне дали, во что переодеться… Франек так, не перевязанный, до завтра остаться не может; из вас ни один ничем не поможет. Я сюда так бы прислал доктора, что живая душа не заметила бы. Я знаю одного достойного, что носит русский мундир; он скажет им, что тут живёт. Но загвоздка в том, что и мне в руки полиции с этой раной попасть не хочется.
– Оставь в покое! Сядь, сядь, до завтра… ничем не поможем! – шепнула грустно Ендреёва.
– Если б вы меня послушали! – прервал Млот. – Я всё прекрасно сделаю, только вашу шляпу возьму.
– Мою? А это как?
– Я должен переодеться в женщину, тогда меня всё-таки пропустят; усов, слава Богу, нет ещё. Дайте мне лишь бы какую юбку, прошу прощения, платок, салопу, а прежде всего шляпу.
Довольная Ендреёва вскочила.
– И ты бы это сделал? – спросила она, целуя его в окровавленную голову.
– Не сделал бы, но сделаю, и то пока ещё немного горячки есть и злости, усиленной от боя, потому что я знаю свою натуру, знаю, что потом силы убегут от меня. А, – добавил он на ухо, – и мои ботинки полны крови, и нога распухает.
Слёзы старухи побежали из глаз как горох и она медленно его оттолкнула.
– Нет, нет! Это было бы жестоко. А если схватят? Этого быть не может! Не пойдёшь!
Но затем она поглядела на сына и заметила, что лицо его становилось всё бледнее, а на полу лужица застывающей крови убеждала в опасности, потому что увеличивалась. Мальчик держался всей силой души, но каждую минуту какой-то туманный сумрак и белые хлопья проскальзывали перед глазами; его охватил лихорадочный сон.
Млот исчез, кивнув служанке. И он заметил, что срочно нужна была помощь; он подхватил первое женское платье, какое нашёл; смеясь, но дрожа, надел его, а когда поглядел в зеркало, сам себе удивился… так был похож на красивую, немного мужественную и сильную девушку. Такие герои с незаросшими лицами были способны на самые большие жертвы. Деспотизм, как горячий климат, рождает преждевременную зрелость.
Нельзя было освещать лестницу; осторожно открылась дверь и Млот с опухшей ногой в темноте начал спускаться вниз, каждую минуту шипя от боли. Когда наконец с великой болью он дотащился до двери, нашёл её закрытой; сторож, который, дрожа, стоял на часах, не сразу, когда ему заплатили, согласился осторожно её открыть и выпустить на улицу. В трёх шагах стоял солдат, в пяти – пьяный полицейский. Млот миновал первого, а другой схватил его за руку.
– Возвращаюсь домой с работы, – сказал тоненьким голосом молодой человек, – прошу вас!
– А чего шляешься по ночам? Темнота какая! В участок!
Млот, несмотря на опухшую ногу, вырвавшись, был уже в нескольких шагах и пошёл дальше, обходя в свою очередь другого солдата, жандарма, патруль. От всех удалось ему как-то уйти, и исчез в темноте. Ендреёва из окна осенила его святым крестом, реликвиями св. Бонифация, и хоть ночь была тёмная и туманная, глаза матери увидели, что ему удалось пройти.
Когда она вернулась к кровати Франка, нашла его в той же позе, борящегося с сильной болью и непередаваемой слабостью; он тихо постоянно просил воды, но голоса в груди ему не хватало. Поглядев на мать, он немного