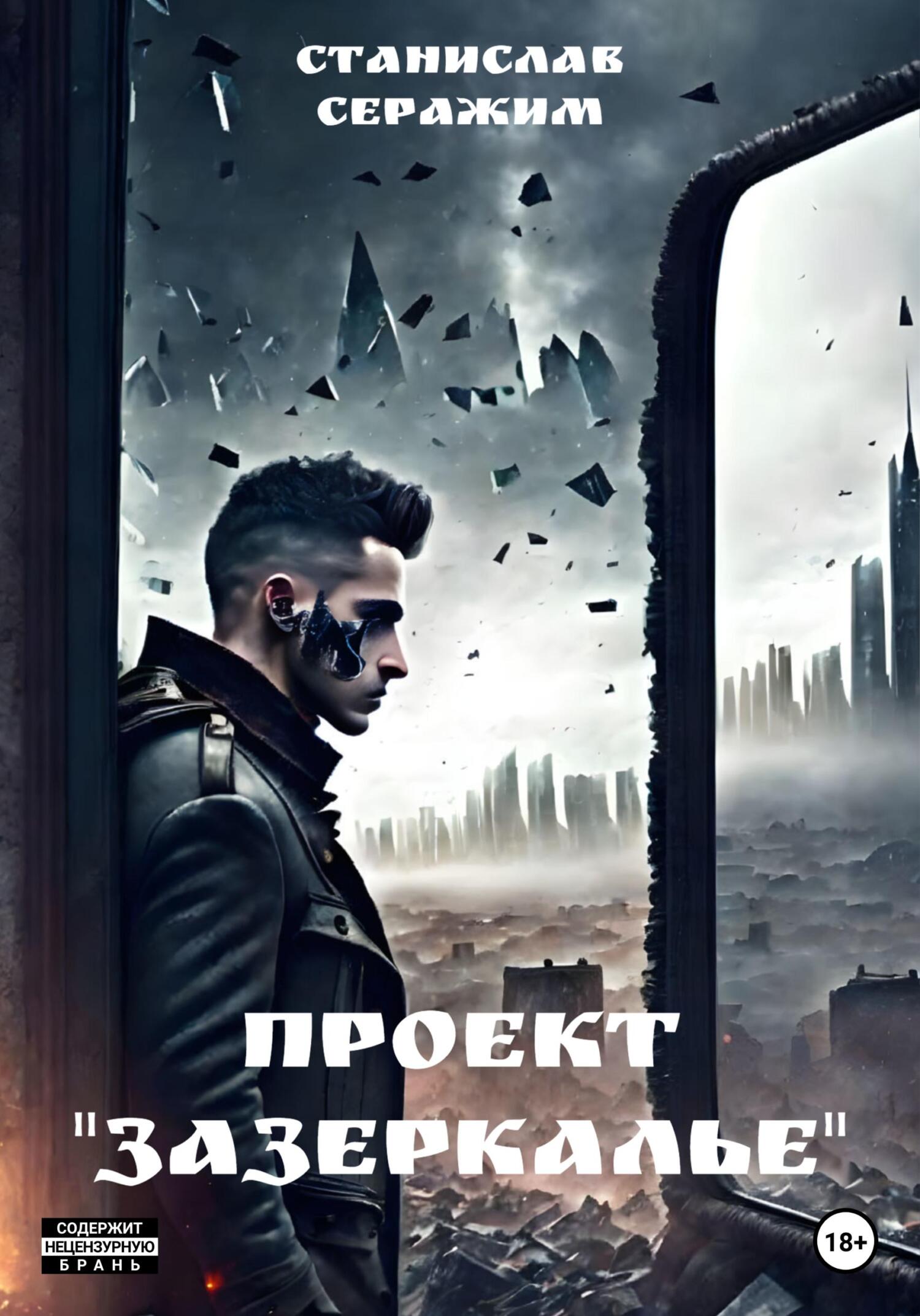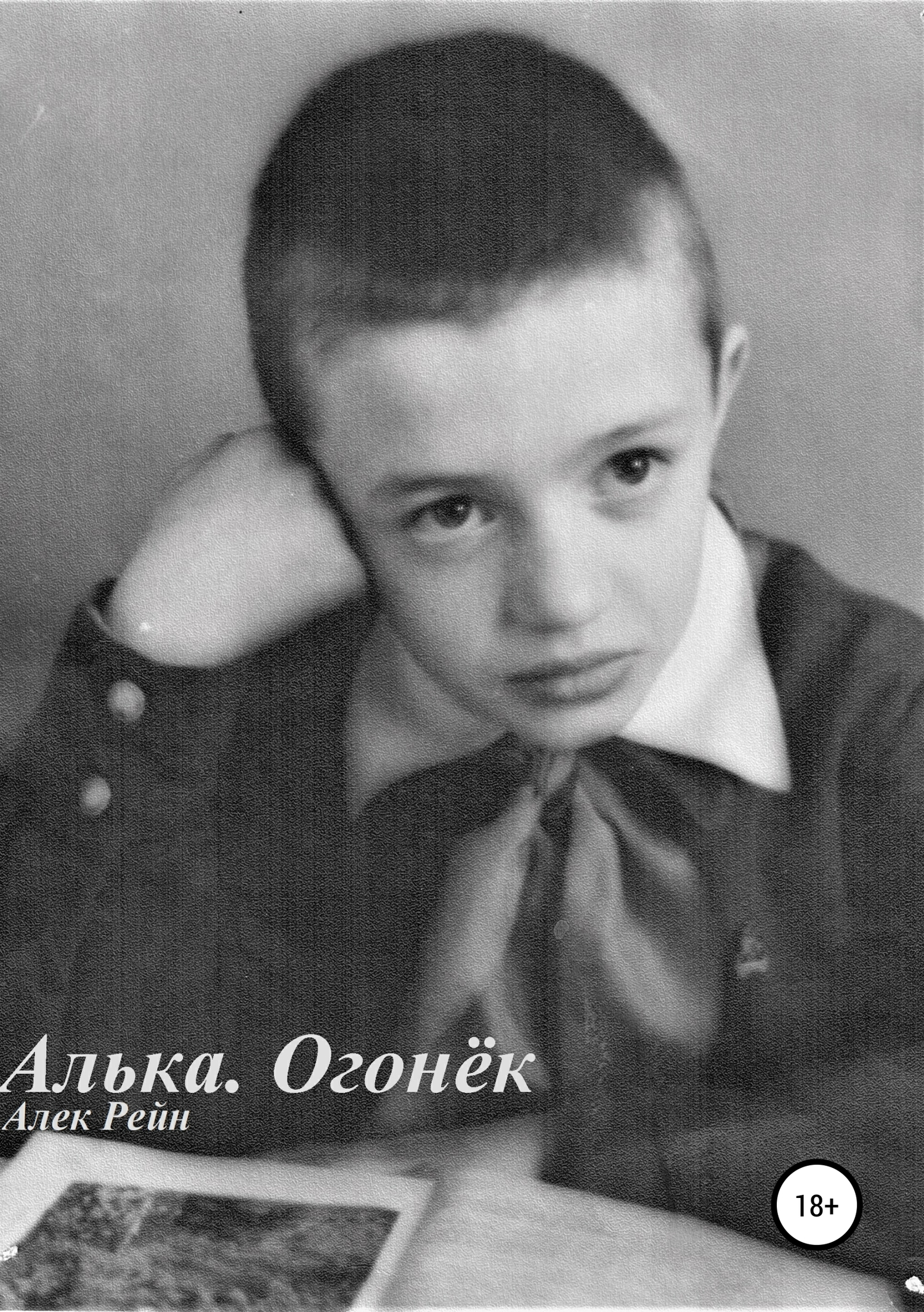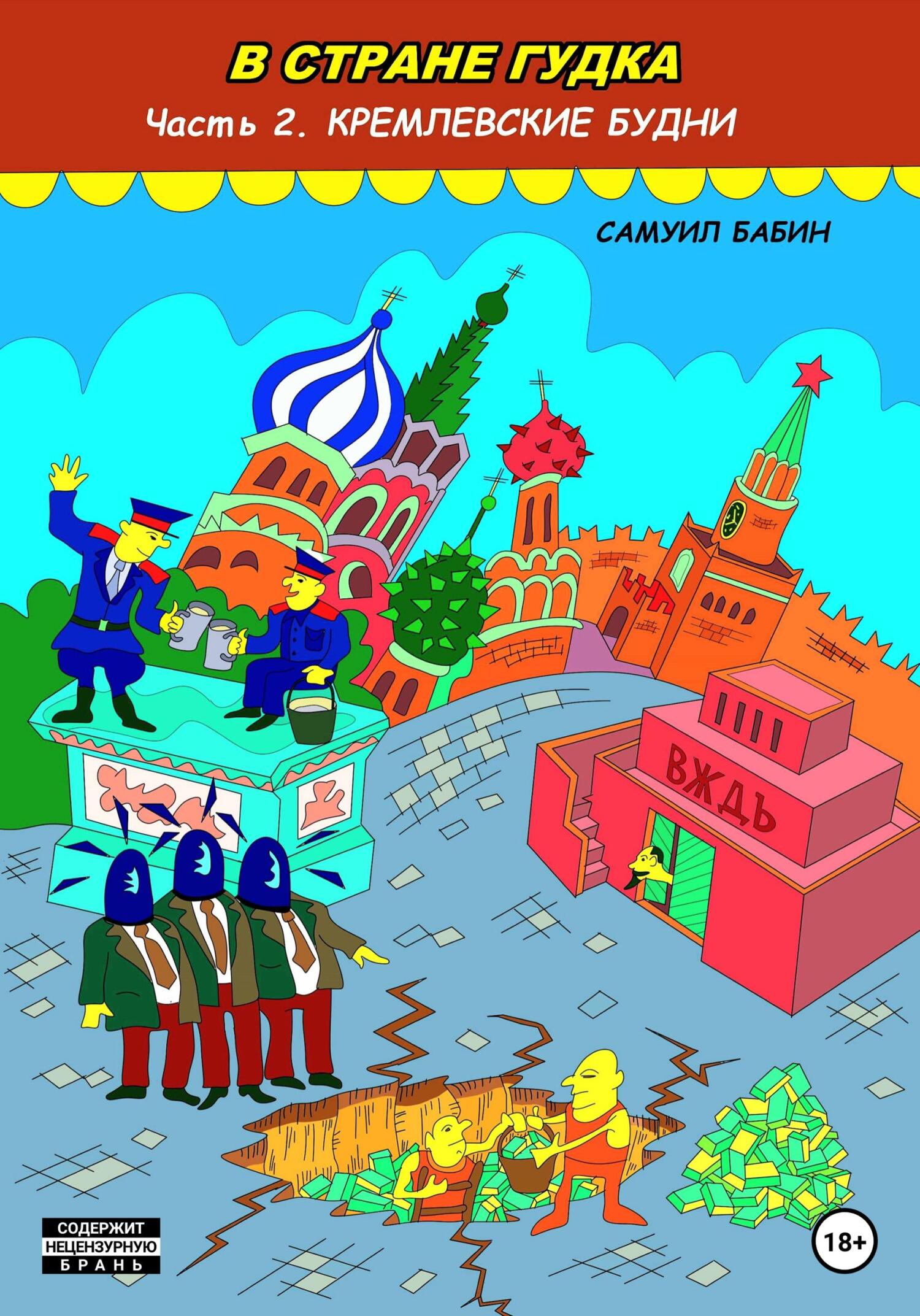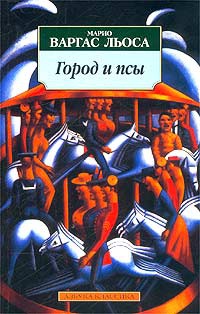озабоченное лицо Рославлевой наложилась вызывающе вздернутая голова Кадминой.
Встречи с ними уже не казались ему необычными. Так, поток жизни, закономерные случайности... Необычным было иное. То, что, казалось бы, совершенно необязывающие разговоры с ними оставили ощутимые занозы в сознании. Тверже, что ли, на земле стоят? У одной негативные, у другой позитивные, но вполне определенные взгляды...
Лишь одно лицо — лицо Инны Сергеевны — он гнал из этих мыслей-видений. Жмурился, снова вызывая в памяти образы тех двух... Красивы ли они? «Бывает красота легкая, искристая, как зеленовато-желтое сухое вино... — говорил как-то Скурлатов. — И бывает красота густая, как густое красное вино, красота тяжелая, благородная». Нет, шеф, жизнь — сложнее. Ее не разложишь по полочкам красивых афоризмов! Ни к одной из этих женщин ваше определение не подходит. Вот разве Инна Сергеевна... Но не надо, не надо о ней!..
— Дела-а-а... — протянул шофер, видимо желая завязать разговор.
Никритин открыл глаза, но не отозвался. Смотрел в темный потолок машины, на ворсистой обивке которого пробегали отсветы уличных фонарей. Нет, хватит на сегодня разговоров. Покоя, покоя!..
Уехать бы сейчас к деду Вите, в Брич-Муллу. Прийти в себя, встряхнуться, омыться горным воздухом в ореховых рощах, насаженных еще при татарской княжне Искандер — опальной любовницы Николая Второго.
Бывают же такие люди, даже немногословное общение с которыми дает тебе ясность и душевный мир...
С дедом Витей познакомился Никритин во время походов с этюдником, когда уходил из базы художников в курортном местечке Брич-Мулла. В самом селении уже были обмусолены в сотнях этюдов и ноздреватые горные склоны — тускло-красные, с серыми прожилками, и заросли одичавшей вишни — никем не ухоженной, не обираемой. Надо было уходить подальше, чтобы найти что-то новое. Так и набрел на опрятную мазанку деда Вити — пасечника, фигуры довольно редкой в Средней Азии.
Уже немолодым попал на фронт борьбы с басмачеством Виктор Захарович. Джигиты Курширмата оставили на нем свою метку — под Наманганом стегануло пулей в подбородок. Оттого и борода росла с пролысиной.
Кончилась гражданская война. Приехала из-под Пензы жена — бабка Нюрка. Осели в Азии. Исколесили всю Ферганскую долину, перебрались ближе к Ташкенту. Работал дед Витя и столяром, и землекопом, и садовником. А потом вышел на пенсию, угомонился, занялся пчелками. Все ближе к земле. Свое исконное, крестьянское...
...Были заведенные, но не приедающиеся шутки.
— Что, дед, живешь еще? — говорил Никритин, подходя по мокрой траве к ульям.
— Жи-и-ву-у! — тенористо пел дед, просияв всеми морщинами. — До самой смерти собираюсь еще прожить!
Вились над коробками ульев, звенели пчелы. Звенело солнце. Утренний ветер доносил влажный запах цветов. Никритин раскидывал складной мольберт. И тогда подступал дед.
— Что, брат, нонешние-то прямо лопатой мажут? — говорил он, глядя, как Никритин кладет широкие мазки охры костяным мастихином. — Помелом уже несподручно?
— А как же! Лопатой-то и загребать! — смеялся Никритин.
Да, был дед — и нет деда. И бабки Нюрки нет. Не пережила своего старика. А все хотела посмотреть, какое оно — «теловидение»...
Когда месяц назад Никритин постучался к ним, открыла их племянница — конопатая, с мочальными косами.
— А где дед Витя? — спросил он, заглядывая через ее плечо.
— Помер. Еще прошлой осенью... — потупила женщина бедно-голубые глаза, почесала босой ногою ногу.
Никритин опустил голову. Лезли в глаза эти распаренно-розовые ноги. «У-у, толстопятая!» — ругнулся он про себя.
— Дожил, значит таки, до самой смерти... — не спросил — сказал для себя Никритин.
— Дожил...
Едва не налетев на хлебный автофургон, шофер резко затормозил. Никритин качнулся вперед. Пронзил уши визг тормозов. Рядом — спокойными красными завитушками — сияла вывеска «Гастроном».
— Это ведь дежурный магазин? — шевельнулся Никритин. — Подождите минутку.
Покупателей в магазине не было. Что-то сонное витало в ярко освещенном просторе меж пестрых полок. Скучающая рыжая девица в белом халате, равнодушно мазнув глазами по лицу Никритина, выставила на прилавок незавернутую бутылку коньяка и банку рыбных консервов. Никритин расплатился и вышел.
«К черту! Оглушить себя — и забыться»... — подумал он, захлопнув дверцу машины, и сунул бутылку глубоко в карман. И тут, в потерявшем контроль сознанье, всплыло лицо Инны Сергеевны — матово-белое, с иронически приподнятой бровью...
...Отпустив такси, Никритин остался в своем темном переулке — узком и пустынном, примыкающем к магистральной улице. Снова зазвучала где-то внутри привязавшаяся еще днем строка из стихотворения: «Голос единицы тоньше писка...» Тоской зашлось сердце. Впору крикнуть, что-либо разбить...
Вскинув руку, он вгляделся в светящийся циферблат часов. Только еще ложатся. Не время идти. Как, какими словами рассказать дотошному дядьке о минувшем дне? Сил на это уже не хватит!..
Он прислонился к воротам.
Густо и сладко пахло доцветающей гледичией — осыпались с дерева у ворот мохнатые сережки.
Изредка — со свистом и грохотом — проносился мимо переулка почти пустой троллейбус. Как-то одиноко, быстро, встревоженно выщелкивали женские каблучки. Грустящий ровный свет лился на синеватый асфальт улицы и отражался от стен в переулке.
Никритин стоял и сосал размокшую сигарету — последнюю в пачке. Медлил, тянул время.
Наконец, вновь глянув на часы, оттолкнулся плечом, шагнул в калитку ворот.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
В медовой полосе солнца, протянувшейся наискось через комнату, толклись пылинки. Знойно стрекотали часы на тумбочке. Было позднее утро.
Никритин спустил босые ноги на пол и откинул волосы растопыренной пятерней. Гудела голова после вчерашней ночи.
...Неслышно проскользнув к себе, он запер дверь двойным оборотом ключа и щелкнул выключателем. Свет голой лампочки больно ударил в глаза, обнажил неприкаянность холостяцкой комнаты. Никритин постоял мгновенье, щуря глаза и оглядываясь. Вскоре все стало на место. Взгляд цеплялся за знакомые вещи, за знакомые стены. Все знакомое, сообщническое...
Он вынул из тумбочки граненый стакан и половину узбекской лепешки, успевшей зачерстветь. Открыл, стараясь не шуметь, «треску в масле». Вытянул, не чмокнув, пробку из бутылки. Потом разулся, сидя на диване, и пошевелил зудящими, запревшими пальцами ног. Жалостливый яд одиночества, будто из иглы шприца, втек в сердце. Резко опрокинув бутылку, он плеснул в стакан коньяк. Пил — и закусывал треской, выбирая ее из банки жесткими кусками лепешки.
Коньяк глушил,