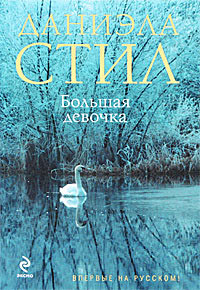— Я тут возмущаюсь восхвалением в литературе роли мужчины, — сказала Фрида, показывая на книгу. Я подлила всем еще кофе.
— Не надо портить такой замечательный день всей этой бессмысленностью, — сказала Аннунген и потянулась за хлебом.
Из гаража, подобно рассерженным клещам, выползли два мопеда. Они принадлежали фирме «Pizza Uno», которая круглые сутки обслуживала клиентов, проголодавшихся перед телевизорами. Собака старика бурно выражала протесты со своего балкона. Я осторожно заглянула сверху на тот балкон. Старик сидел, сонно свесив голову и крепко вцепившись в свою трость. В нашей квартире зазвонил мобильный телефон. Аннунген подняла голову.
— Это не мой, — твердо сказала она, однако встала и ушла в гостиную.
Я попыталась услышать, о чем там говорят. Женщина моего возраста вышла на балкон старика и раскрыла зонт.
— Думаешь, это дочь нашего соседа? — шепотом спросила я.
Фрида подошла к открытой двери. На улице кто-то смеялся, собака старика снова залаяла. Он продолжал спать, но женщина тихо ушла в квартиру, словно не хотела вразумлять лающую собаку. Может, она заметила меня и испугалась, что я тоже залаю. Мне стало стыдно от одной этой мысли.
Наконец наступила тишина, и Аннунген вернулась с телефоном в руке.
— Ну? — спросила Фрида, глядя в пространство.
— Это был Франк.
— И ты с ним говорила? — спросила я сдавленным голосом.
— Да, мне пришлось.
— Как он узнал твой новый номер?
— Что? Я забыла у него спросить. Наверное, моя сестра…
— Чего он хотел? — Фрида рухнула на стул так, что его ножки взвизгнули на плитках пола.
— Просил, чтобы я вернулась домой. Он больше не живет в Холменколлене…
— Подумать только! А те, кто вам угрожал? Что Франк сказал о них? — В голосе Фриды послышался металл.
— Франк сказал, что готов опустошить весь свой магазин, чтобы рассчитаться с ними, но я должна обещать, что вернусь к нему. Что все будет, как прежде…
— И ты ему веришь?
— Он хотел, чтобы я пообещала забрать девочек и вернуться домой. Он…
— И как долго, по-твоему, это продлится? — перебила ее Фрида.
— Не знаю, — прошептала Аннунген и положила телефон на стол между нами.
— Когда же ты уезжаешь? — спросила я равнодушно.
— Только не на этой неделе… Может быть, в понедельник или во вторник, — уклончиво ответила она.
— Он знает, с кем ты?
— Нет. Ведь я обещала… Между прочим, а почему он не должен…
— Я не хочу, чтобы меня кто-то преследовал! — оборвала ее Фрида. Голос у нее дрожал, словно она была взволнована не меньше меня.
— Давай не будем ссориться. Пожалуйста! Нам было так хорошо. И посреди завтрака. Мы с Франком никогда не ссорились…
— Конечно, нет, вот только не пойму, почему ты вдруг оказалась здесь? — презрительно спросила Фрида.
Аннунген встала, взяла свою тарелку и ушла в квартиру.
— Зачем ты так? — устало спросила я Фриду.
— Она говорила с Франком почти всю ночь. Неужели ты ничего не слышала?
— По-моему, это нас не касается.
— Как ты можешь оставаться такой спокойной, когда в тебе кипит ревность? — сквозь зубы процедила Фрида.
— О чем они говорили?
— О деньгах! И о даме в Холменколлене, которая по их общему мнению просто дура.
— Понятно!
— Больше тебе нечего сказать?
— Что бы я ни сказала, от этого ничего не изменится.
— Изменится! Ты можешь рассказать Аннунген про себя с Франком, она рассердится на него и никуда не уедет. Вдали от него ты в состоянии понять, что он просто блефует. Ты можешь повлиять на ее решение.
Я деловито убирала крошки вокруг тарелок. На чайной ложечке засохли остатки яичного желтка. Посудомоечная машина засорится, если его не счистить.
— Это может оказаться редкой удачей для твоего романа, — подобострастно сказала Фрида. — Только составь план и не отступай от него.
Я с нетерпением ждала когда мы покончим с завтраком. Единственное, чего мне хотелось, это остаться наедине с рукописью, забыв о Фридиных советах. Где-то стукнули по бочке из-под бензина. Это напугало воробьев на соседней крыше. Сначала взлетел один, потом вся стайка. Хлопнула входная дверь.
— Аннунген ушла. Ей все это надоело, — сказала я.
— Я слышала. Но когда отношения обостряются, я должна быть честной. И ты тоже.
— Неужели ты серьезно считаешь, что я должна рассказать ей о нас с Франком?
— Это удержит ее от глупости и помешает вернуться домой.
— Но ведь она говорила, что легко относится к изменам Франка, — сказала я и начала уже по-настоящему убирать со стола.
— Ты сама в это не веришь. Супружеская привязанность не бывает настолько крепкой, чтобы кто-то из них ухитрился легко относиться к изменам. Слышишь, не бывает!
— Я не могу ей это сказать. Не могу быть такой… низкой.
— Хочешь сказать, что из жалости к себе ты отправишь ее домой на новые унижения? — спросила Фрида. Через мгновение я осталась одна.
Несмотря на плохое начало дня, мне удалось написать несколько фраз, которые остались невычеркнутыми. Когда Аннунген вернулась домой, я извинилась перед ней за Фриду.
— Не о чем говорить, — сказала она и прошла в ванную, чтобы сполоснуть белье.
— Люди уже загорают и купаются в море! — крикнула она в открытую дверь.
— А ты?
— Я еще подожду. Для меня пока холодно.
Вечером шел такой сильный дождь, что мы предпочли остаться дома. Фрида включила телевизор. Показывали матч между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом» Все соседи открыли окна, и уровень звука был так высок, что мы оказались свидетелями важнейшего — поистине религиозного — события в Каталонии. Борьба на поле велась не только против Мадрида, но и против всей Испании, и против всего остального мира. Демонстрации против совещания на высшем уровне стран «Общего рынка» были лишь незначительным эпизодом в перечне новостей дня перед разминкой. Главной была борьба за доказательство каталонского мужества.
— Это, конечно, совсем не то, что мелкий мужской шовинизм, в котором ты обвинила Кундеру, но ты же сидишь и смотришь этот матч, — вяло заметила я. Сама не знаю, почему мне захотелось подразнить Фриду. Такой уж нынче выдался день.
— Мужская сентиментальность — это не шутки, это страсть, — серьезно ответила Фрида.
На экране развернулась демонстрация глубоких чувств, которые, разумеется, не имели ничего общего с женской сентиментальностью. Все было серьезно, все, вплоть до последней капельки пота. Тут были объятия, страсть и слезы. Им противостояли не менее сильные чувства. Я все время ждала, что вот-вот в трибуне распахнутся ворота, выбегут львы и разорвут героев на части на глазах у зрителей. Для того чтобы проиллюстрировать происходящее, можно без преувеличения употребить такое высокопарное выражение как презрение к смерти. По голосу репортера можно было следить за этой драмой, не зная испанского или каталонского. Полет мяча или положение игроков меня мало занимали. Занимала искренность и захватывающая борьба за победу. И всеобщее сокрушение, когда противоположная сторона забивала гол. Слезы в голосе репортера, гнев народных масс, флаги, поднятые на трибунах, как по сигналу, и образовавшие огромный каталонский флаг. Людские тела заставляли его волноваться, словно живой символ этой мужской мелодрамы.