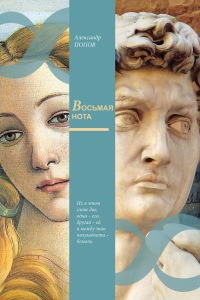7
Живописный пейзаж, холод. Неожиданно открывается море. Оно покоится, ледяное и серое. Военные корабли уходят вдаль, образ внутренней связи, внутреннего пространства[60]. Я начинаю приживаться на полуострове. Я единственный, кто здесь хочет остаться. Так же как я хотел начать жизнь в Марбурге. Образное выражение: сжечь корабли. Когда народ расстается с прежней жизнью, «решает покинуть остров», в этом волевом движении соединяется вся сила прошлого и будущего. Это и будет «момент». Колонны, устремляющиеся в новую жизнь, новый абрис эпохи. Вот, собственно, что на самом деле происходит в наши годы. Я наблюдаю (чрезвычайно профессионально осуществленную) экзекуцию, проводимую 2-й ротой команды Олендорфа. В качестве приглашенного гостя. Стоит столик с писарем. Аккуратно выстроенная людская очередь. Спокойствие. Никаких стоящих вокруг или ожидающих войск, только те, кто чем-либо занят, активные участники экзекуции, однако никто не знает, что они делают. Люди, стоящие в очереди, видят только занятых и снующих туда-сюда людей. Через определенные промежутки времени группы по 12–16 человек грузятся на машины, и их увозят. Вот, собственно, и все. Сама казнь — как мне сказали, в ущелье километрах в тринадцати — происходит без всякой публики. Тогда это не оказывает устрашающего воздействия, говорю я. Напротив, оно заключается в том, что об этом ходят слухи. Невидимое действует, отвечает советник полиции Вернике, сохраняющий спокойствие; сам он не слишком занят, потому что направляет других. Это будет действовать неделями, говорит он, воздействие начинается после окончания собственно операции[61]. Посмотрите, профессор, как спокойны люди в очереди. Видите ли вы каких-нибудь зевак? Вот как надо работать. Мы сводим число жертв к необходимому минимуму.
Я подхожу ближе к очереди. Подводят новых людей. Я в числе немногих, не занятых никакой работой. Роль зрителя при событии, существенный элемент которого невидим, без собственной деятельности невыносима.
Мы стоим на площади, двухэтажные здания, высаженные по четырехугольному периметру деревья. Возникает сумятица из-за того, что в выстроенную Олендорфом сцену вклинивается колонна войсковых машин. Перепалка между Вернике и штабс-фельдфебелем, командующим колонной. Очередь приходится разомкнуть, столик писаря отодвинуть, чтобы колонна, которая не может повернуть, проехала. Я чувствую прикосновение к моей руке. Я делаю движение и хватаю чужую руку: маленькая темноглазая женщина вложила в мою ладонь руку ребенка, и я схватил ее. Женщина исчезла в очереди, я держу, в растерянности, ребенка, маленькую девочку. Мучительная ситуация. Я не могу влезать в очередь. Это было бы нарушением порядка. Однако со своего места я не вижу женщины, оставившей мне ребенка. Девочка крепко держит меня за руку. Я не могу говорить с ней, не зная языка. Подаю ей знаки.
Среди моих основных принципов — ни в какой жизненной ситуации не противоречить себе самому. «Никто не бывает умнее своей судьбы». Я сделал движение рукой, когда руку девочки вложили в мою руку. Я позволил застать себя врасплох, одурачить себя, сказал Хайдеггер позднее военному советнику юстиции доктору Вольцогену. «Ничто не происходит без причины». Я воспринимал отданное мне в руки как то, что мне доверено. Человеческая очередь продолжала двигаться. По мере того как людей увозили, она сокращалась. Я полагал, что та темноглазая женщина (гречанка?) тоже увезена. Для меня (в неприятном, бездеятельном положении свидетеля, ожидающего обеда как содержательного наполнения бытия, в этом мучительном стоянии) было удачей неожиданное столкновение с живым существом, которое я держал за руку; в то же время мне было бы мучительно передать ребенка часовым или отвести его обратно в очередь. Под влиянием отсроченного импульса (после почти часового бездействия, кажется, неуместно говорить об импульсе, однако бывает такое непосредственное метание душевного порыва, которое оказывается неожиданным для нас самих и делает нечто, не спрашивая наше Я или какую-либо властную инстанцию, пока мы только еще начинаем замечать случившееся, ЭТО СВАЛИВАЕТСЯ НА НАС) я спросил спешившего мимо Олендорфа, могу ли оставить ребенка у себя. Откуда у вас эта девочка? Я рассказал. Вернике выдал мне ребенка, то есть подтвердил, что он может оставаться у меня. Это время быстрых решений из-за обширности страны. «Держать изначально значит беречь».
8
Ребенок тщательно вымыт с помощью ефрейтора соседней санитарной роты. В моей квартире у него собственная комната. Его охраняет часовой, так же как и меня, как и штаб. Теперь он на стороне завоевателей. Теоретически ему надо было бы сшить немецкую форму.
Вы не можете забрать ребенка на территорию рейха, говорит советник полиции Вернике, он еврейского происхождения. Кто об этом знает в рейхе? — спрашиваю я. Вы не можете разъезжать с найденышем. Как только вы доберетесь до рейха, покинув фронтовую зону, вам придется объяснить статус ребенка. Удочерили ли вы ее? Брали ли вы на фронт своего ребенка? Или это военная добыча? Малолетний военнопленный?
Мы тут не на Троянской войне. А вы не младший Аякс. Я почти не отвечаю. Размышления Вернике окрашиваются симпатией. По крайней мере, можно поговорить о необычном случае.
Такова примета новой эпохи, выражающаяся на этой войне как «фронтовой опыт»: предметом обсуждения становится опрокидывание установившихся ценностей и привычек. Верно и то, что родные края не причастны к этому новому закону времени…
Я не поеду обратно, отвечаю я Вернике. Хотите разбить здесь свой философский лагерь? Я колеблюсь. Во время долгого пешего марша к побережью я уверился, что порываю с прежней жизнью, не возвращаюсь на родину, а буду сопровождать движение войск по земному шару. В этом походе я могу оставить при себе свою «живую добычу». Я знаю, обратив взгляд внутрь себя, что я неподвластен жалости. Я хочу не защищать, я хочу обладать этим живым существом.
Юноша прыгает за девушкой в реку, и это единственный счастливый поворот судьбы в «Избирательном сродстве». Что отличает мое желание от желания пригреть потерявшуюся собаку?
Счастливые дни. В холоде нахожу в храме Артемиды глиняные таблички. Приношу их домой. Бережно упакованные в картон, лежат они в моем жилище, превращающемся в пещеру награбленных сокровищ.
Реальное/нереальное
Дни в Крыму. Во многих отношениях «нереальные». Вот Хайдеггер, следуя древним обычаям своей родины, отправляется пешком через партизанские места в горы. Он говорит, что хотел увидеть море и выкрикнуть, когда оно откроется ему по дороге, его греческое название. Однако ему не удалось пройти горы до самого побережья. Зато он теперь готов оценивать находки. После такого напряжения он чувствует себя в единстве с этой землей. Офицер, отвечающий за связи с учеными, считает такую позицию нереалистической, «фантазерством», поскольку существовала восьмидесятипроцентная вероятность того, что философа могли подстрелить партизаны, обитающие группами человек по 20 в горных пещерах. За бокалом красного вина в штабе 11-й армии поздним вечером того же дня разговоры углубляются в области, «далекие от интеллектуальности».