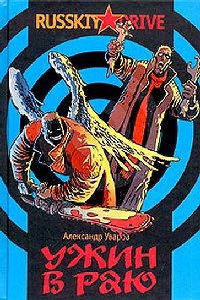каком-нибудь аналоге яслей будущего. Всей непристойности сегодняшних родов можно было бы избежать, эстетика восторжествовала бы – так же, как и мораль. Женский вопрос также был бы решен, и жена стала бы во всем равна мужу. Ее тело будет принадлежать ей одной и не будет измождено процессом яйцекладки. Ее ценность в глазах мужа вырастет необыкновенно – еще бы, яйцо-другое всегда чего-то стоит! Более того, таким образом…
Как только я достиг этого момента, понял, что странные храпящие звуки исходили от доктора Шульца и неприятно смешивались с тихим храпом фрау Кналлер. Тем временем кебмен, пересевший к нам за стол, прикончил во время моей пламенной речи восемнадцать порций отборного грога и тоже дал храпака.
Я разбудил его и упрекнул в невнимании, но потом помирился и выпил с ним пива. Затем он любезно отвез меня домой. Доктора Шульца мы бросили на попечение фрау. Что с ним случилось в дальнейшем, понятия не имею.
Подведу итог. Шульц и Кналлер – единственные свидетели, способные доказать мою причастность к созданию «Человекубатора». Их показания, естественно, бесценны для меня – на случай защиты интеллектуальных прав в суде. К сожалению, я могу лишь гадать, где эти люди теперь, а без них у меня никаких доказательств нет. Все, что мне известно, – тот факт, что полиция не знает о нынешнем местонахождении Фриды Кналлер. И она, и доктор Шульц покинули Берлин еще два года назад и вроде как осели в Лондоне. Я убежден, что эти два прохиндея свели знакомство с профессором Пейдскоттлом и доктором Физмаппом где-нибудь на Пикадилли и вероломно передали этим двум джентльменам идею моего человекубатора.
Но пускай эти сыновья Альбиона в конце концов извлекут из нее выгоду, а великая мысль все же принадлежит мне, гуманистически образованному, желающему прекрасного и полному справедливых тревог за человечество немецкому юноше-доброхоту.
Аристократка Элли Барвальд
Когда семнадцать поколений сплошь были старьевщиками, восемнадцатое – оно и неудивительно – начинает заботиться о приличии, девятнадцатое – о благосостоянии, а двадцатое – об аристократизме. В роду Элли Барвальд уже были один очень достойный дед и в высшей степени приличные родители, поэтому нет ничего удивительного в том, что она была вполне аристократичной особой. Ее портниха сказала однажды:
– Когда с вами разговариваешь, то невольно хочется назвать вас графиньей[52]!
Элли Барвальд пожала плечами и ответила:
– Делайте ваше дело и оставьте свои замечания при себе!
Конечно, такой ответ только больше импонировал портнихе.
Подбирая подол платья перед тем, как перейти через улицу, Элли держала ткань не позади себя, а перед собой. Она настояла на том, чтобы ее отец отказал от дома белокурому асессору, после того как тот налил себе мозельвейн в стакан для бордо. В течение дня она выкуривала только одну длинную папироску, посреди обеда, и неизменно сдабривала ее вкус глотком отменнейшего римского пунша. С годами она все более и более проникалась аристократизмом – он стал ее культом, содержанием самой ее жизни.
– А жить надо так, как живут в Копенгагене! – решила однажды Элли.
Сложно упрекнуть ее в бросании слов на ветер – так она и жила, ну, или по меньшей мере ум ее жил очень даже по-копенгагенски. Она спала среди молочно-белых и серовато-голубых фарфоровых тонов; она, чуть день, толковала о «новом искусстве» и вдохновила одного молодого поэта написать удивительный этюд по поводу пылающего в печке огня.
– Вы такая особенная! – охали и ахали перед Элли ее поклонники, а она позволяла за это поцеловать ноготь на своем пальце, слегка подкрашенный голубым лаком.
– Дело вовсе не во мне! – восклицала она. – Ах, ну почему другие не такие, как я?
Господин Хабермант, художник из Мюнхена, умевший придавать своим портретам нечто копенгагенское, разговорился как-то раз с Элли Барвальд; разговор зашел о красоте смерти. Она не поняла наверняка, говорит он серьезно или шутит, но ей пришло в голову необыкновенно удачное выражение, которое она не замедлила сообщить сему почтенному мастеру кисти:
– Красота есть источник жизни! И жизнь зачинается в красоте!
При этом она так спокойно взглянула в глаза Хаберманту, что тот поспешил глубоко поклониться, чтобы скрыть невольную усмешку. Он поцеловал голубоватый ноготь ее руки и с загадочной улыбкой был таков.
С той поры Элли стала мечтать о муже. Весь ее аристократизм, все ее эстетические запросы, вся ее утонченность обратились на этот пункт. Она знала, каков будет ее муж, прежде чем его увидела: он будет членом «Юнион-клуба», а кроме того, автомобильным энтузиастом и участником императорской регаты. Его имя будет звучать до ужаса знатно, а руки его, в силу легкой примеси восточной крови, будут большие и сильные. И пусть он будет атташе при каком-нибудь посольстве – такие ведают вкус к жизни; а еще – писатель или художник, но ни в коем случае не музыкант, ибо истинный аристократ никак не может записаться в музыканты!
Элли Барвальд должна была встретить такого человека – и такой попадался ей время от времени. Ну, то есть несколько раз она почти находила того, кого нужно, но вскорости открывалось, что это вовсе не тот, кто нужен. Господин Хабермант, художник из Мюнхена, заметил ей, когда она поделилась с ним своими невзгодами:
– Умереть в красоте, поверьте мне, куда легче, чем в ней же зачать.
На это Элли ответила:
– Придержите свой змеиный язык! – Жестокость мюнхенца по отношению к ней и к ее жутким проблемам даже заставила ее на некоторое время забыть об аристократизме.
Но пришел день, и страстное желание всей жизни Элли сбылось – ее руки попросил один выдающийся претендент. Он был членом «Юнион-клуба» и в автомобилях смыслил буквально все, что мог смыслить человек; в императорском яхт-клубе все считали его своим в доску, а уж имя у этого мужчины было аристократичнее некуда. Судя по всему, имелась и восточная кровь, коль скоро руки претендента являли образчик силы и внушительности; вкус к жизни он, несомненно, чувствовал донельзя тонко, на что недвусмысленно намекал пост посольского атташе в его послужном списке. А еще этот замечательный муж рисовал картины – и талантливо рисовал, по всеобщему мнению!..
– Поверьте, я самый заурядный чертяка, – отрекомендовал претендент себя в самом первом разговоре с Элли, и бедная зардевшаяся аристократка почувствовала, как трепещет душа от близости такого поистине знатного образца великодушия.
Их свадьба была проста и сдержанна настолько, насколько это вообще возможно даже у аристократов. Уже в половине второго, после обеда, молодые взошли в скорый поезд до Вены и укатили. Но на другой день вечером у двери