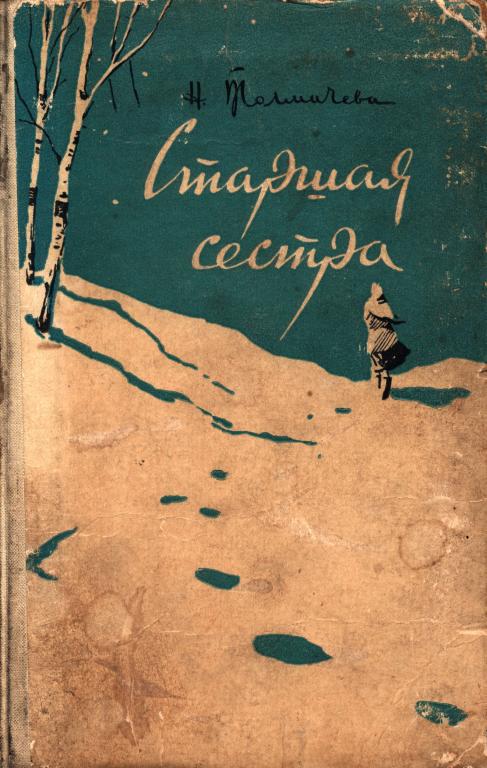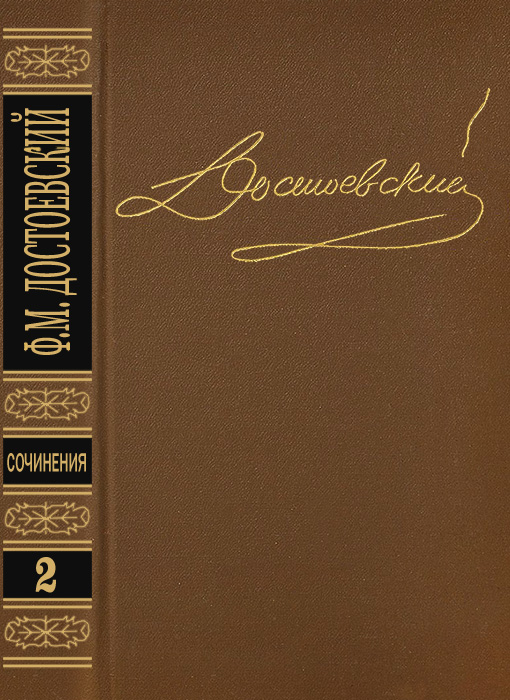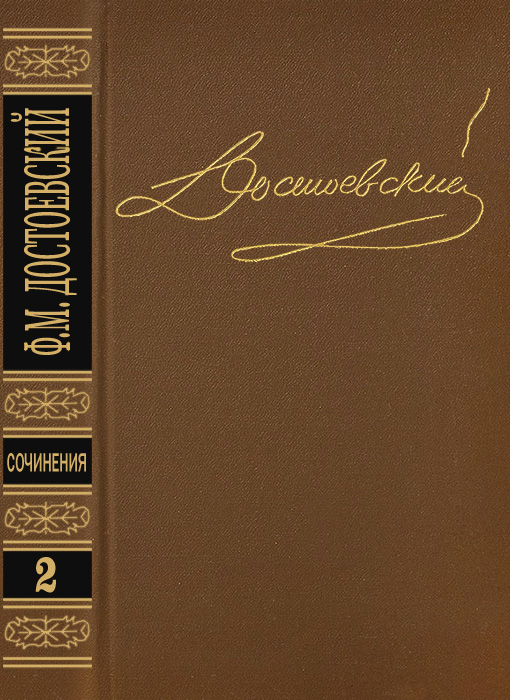поехал. — Она опять ушла в сени. — В магазин. Если очереди не будет, так на велосипеде он быстро.
— Мой велосипед еще, — усмехнулся Борис Иванович.
— Недавно цепь достал новую. Уж он его чинит-чинит. — Она звякнула посудой. — Завтрак поставлю покуда, — и понесла что-то в комнату.
Борис Иванович с полотенцем в руках постоял немного. Поглядел, как солнце встает из-за сопки. И пошел неторопливо по двору, все оглядывая хозяйским оком — и близкое полотно, и крышу дома, и цыплят, копошащихся в ведре с фикусом. Один за другим узнавал предметы, и тогда они становились его, будто возвращались на прежнее место. Вот стоит его трамбовка у ящика с инструментом, и ящик этот дощатый — его отец еще ладил, и вечная клумба с красными кирпичами «Миру — мир», и дерево — тоже его, вечное, тополь, что ли. Всю жизнь одно-разъединственное, а будто весь двор в лесу, дед, говорят, сажал. А забор! Э-э, что это? Он подошел к забору. Край его завалился в полынь, столбик отгнил, скатился в канаву, штакетник пообломался, жерди уткнулись в землю. Та-ак. Борис Иванович упер руки в бока. «Вот оно — хозяйство без мужика. Без мужика все рушится». Он был доволен. Осторожно, чтоб не напороться на длинные ржавые гвозди, поднял край изгороди, подтащил к дереву, привалил к толстому его морщинистому стволу. «Все рушится без мужика. Все. Забора наладить не могут». Он взял с клумбы кирпич и, перекинув полотенце за спину, стал прибивать жерди к стволу, крепко-накрепко, покряхтывая от удовольствия. И вдруг:
— Что ж ты в живое-то бьешь?! — рядом стояла Сима, гневная, бледная. — Не к чему это в живое бить!
Он выпрямился, отступил в удивленье:
— А что ему сделается?
Она молча шагнула, прижалась всем телом к стволу, напряглась и с силой вырвала жерди с гвоздями. Край забора качнулся, опять завалился прямо под ноги Борису Ивановичу. А она, не глянув даже, ушла.
В сопках дрогнуло, загудело, перекатилось дальним тоскливым эхом. Борис Иванович машинально узнал тяжелый товарный. Отшвырнул кирпич и быстро пошел к дому. Терпенье его кончилось.
В комнате потрескивала на плите яичница. Серафима готовила как ни в чем не бывало. Окна были распахнуты, постель прибрана. Борис Иванович взял со стола чемодан, прошел к койке, вывалил содержимое прямо на одеяло, пошвырял в сторону подарки: какие-то кофты, туалетный набор «Кармен», серый для матери платок в клетку, спросил:
— Где мое ружье?
— Ружье? — она задумалась, вспоминая, рукой провела по лбу.
Он поразился — не помнить, где его ружье!
— На чердаке вроде. Я его тогда же на чердак отнесла. — Она взглянула на кучу добра на постели и опять за нож. — Мишка приедет — отыщет. Он все знает. А я уж не помню, где оно там.
В сенях он отшвырнул какие-то тюки и по железным скобам стал подниматься наверх.
На чердаке было жарко от раннего солнца. Борис Иванович постоял, огляделся. Сквозь щели, по застрехам били розовые лучи, зайчиками пятнали хламье по углам, связки полынных веников по балкам, измятую Мишкину постель с красной подушкой и стеганым одеялом. Пригибаясь, Борис Иванович пошел через весь чердак в дальний угол, где громоздился целый завал. Вот деревянная разломанная люлька, это вроде его еще качка, отец мастерил, а потом в ней Мишка до году спал. Поднимая густую пыль, Борис Иванович откинул ее в сторону, и старый стул откинул, и прялку, и какие-то обода. Потом присел на корточки и от самой застрехи подтащил длинный ящик. Внутри что-то нащупал в мешковине, обрадовался — тут, слава богу. Долго, с нетерпением разматывал пропыленную дерюгу (кто это замотал-то так?) и увидел наконец свое ружье. Полюбовался. Ладонью отер приклад, пощелкал курками. Переломил ружье о колено, на свет поглядел стволы. Ну и пылищи! Опять пошарил в ящике, но шомпола не нашел. А был шомпол и коробки с патронами. Все было. Куда, к черту, все подевалось? Он подобрал прут и, намотав ветошь, с удовольствием прочистил стволы. Потом с лязгом закрыл ружье и, сжав в руке, пошел с чердака, сразу чувствуя новую уверенность и силу. А за спиной в длинных солнечных лучах металась желтая пыль.
— Где патроны? — спросил он, входя.
Сима молча прошла к комоду, порылась в ящике.
— От Мишки прятала, — выложила на стол коробку. — Что-то нет его долго. Видно, очередь. Есть будете?
Он молча натянул пиджак, проверил в карманах деньги, бумаги, молча зарядил ружье, чувствуя, как она стоит в ожиданье, и пошел вон из дому.
Знакомая светлая дорога, не разбитая за лето колесами, шла под самой стеной леса, вдоль железнодорожного полотна. По ней в сторону станции и шагал Борис Иванович. Шагал и думал: Карпова нет, мастером этот Голиков, все теперь по-новому идет, без него и соваться туда нечего. Чего он там не видел? Можно, конечно, в Дорстрой сходить, разузнать, что за ветку ведут, много ли платят — в теплушках за энтузиазм жить он тоже не дурак. А может, все-таки к Папикяну в управление ткнуться?.. Позади уже не было видно ни дома, ни огорода. Только вершина зеленого тополя, точно перст, поднималась в небо. Но Борис Иванович не оглядывался. Он торопливо шагал по солнцу, думая о своем, скорей хотел скрыться в чаще от зноя, досады и неприятностей. В самом деле! Другая баба рада была бы. Ну, поругала бы или поплакала, ну, помолчала — и хватит. Ведь вернулся! Судьбу же ее решил, и все как лучше хотел, подарки вез. А с этим дурацким забором что устроила? Ненормальная. Нет, к черту. Уехать отсюда надо, уехать, обратно к Татьяне, на сплав. Вот та — обрадуется, вот та — баба, уж радость так радость, от всего широкого сердца. И образованная, и деньги. И он сразу представил Татьяну доброй, умной и щеки ее, румяные и твердые, как свежие яблоки.
На косогоре в зелени кустов и высоких ромашек Борис Иванович увидел корову на привязи, черную с белыми пятнами. Переступая, та мирно щипала траву. Он вгляделся, узнал — то была их корова Марта. Отец, путевой мастер, мужик крепкий, хозяйский, купил телочку на соседнем разъезде и привел в марте прямо по шпалам, по оттаявшему полотну. Как раз Серафима была на восьмом месяце, мать ее берегла, хозяйствовать не пускала, а сам Борис Иванович, тогда еще Боря, обходчиком был. Да-а. Сколько уже лет прошло. И вон как жизнь перевернулась.
Корова подняла голову, долго неподвижно глядя на проходящего постороннего человека.
Одно лето, когда старик уже умер, надорвался он на покосе,