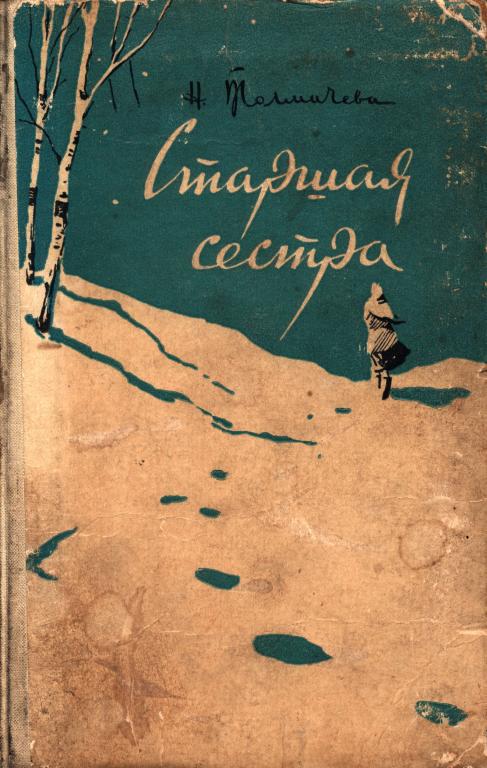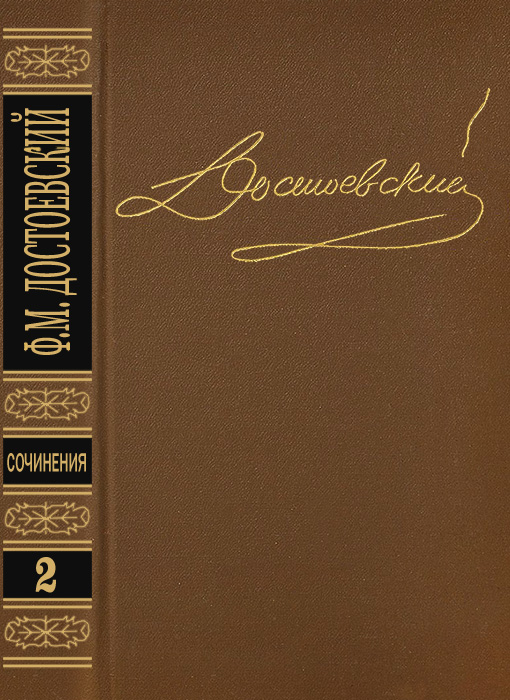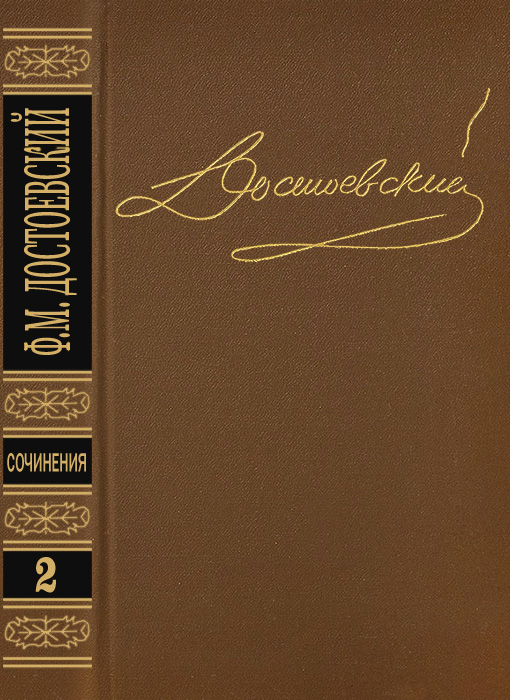белье. Принялась стелить постель. Высокую, белую. Она топталась на досочке у кровати, засовывая цветастые тугие подушки в свежие наволочки. Взбивала их и клала в головах, одну подле другой.
Борис Иванович глядел, как она готовит эту богатую постель, и сердце его смягчилось. «Ладно, все уладится», — думал он. Вот Сима низко склонилась, разглаживая простыню, и движенье это было такое знакомое, что для него вдруг сразу отодвинулись и остыли все неприятности. Захотелось быть добрым, ласковым. Он потянулся к чемодану, сейчас, сейчас он удивит ее и мать.
— А мать что? Не слезет, что ли, с печи? — нарочно громко спросил он. — Заспалась, что ли? — сдвинул миски-тарелки в сторону. — Не слышит: сын приехал?
Сима хлопнула напоследок подушку.
— Нет ее, Боря. Померла она, — пригладила простыню. — Весной схоронили. — Борис Иванович поглядел на нее бессмысленно. А она пошла к плите, принялась мыть посуду.
— Она и так плохая была, — говорила Сима спокойно. — А тут родню вздумала проведать, в Шушу поехала, к Дуське на неделю, а там, сам знаешь, ребят полон дом, дел по горло. — Сима постукивала посудой. — Вернулась, правда, ничего. А тут таять как раз. Полезла она снег с крыши сгребать и свалилась. Я с обхода иду, а Мишка навстречу бежит перепуганный, знай, одно кричит: «Бабушка! Бабушка!» Ну, кинулась. Она вся мокрая в снегу сидит. Я ее тормошить: «Мама, мама!» А она уже мертвая. — Она потрогала чайник на плитке, отлила воды в ковшик. — Сейчас скипит. Ну, отбила я телеграмму Дусе. Пока та приехала, гроб заказала на станции, дед Голиков делал с Женей. А кругом тает, развезло, машины не ходят сюда, грязь по колено. Пошла я к Карпову дрезину просить. Он еще был тогда. Не дает. Не дает, и все. «Не забывайся, — говорит, — это тебе железная дорога, а не катафалка». А я-то знаю, что «окна» есть. Два-три «окна» в день. Уж я там просила-просила, плакать устала. — Голос был ровный, спокойный, чайник тихо запел. — Потом уломался. Жене спасибо. Так и везли мы маманю в гробу на дрезине, на второй километр. А там уж в горку на руках, она легкая. С отцом рядышком положили, места там много. Просторное место. — Она откинула прядь со лба, сняла чайник, отерла его тряпицей. — В общем, располагайтесь, чай вот пейте, — и пошла к двери по белой досочке. — Мне в обход пора.
Борис Иванович вздохнул:
— Не до чаю.
— Ну, ложитесь тогда, отдыхайте с дороги, я лампу погашу, — и, выключив свет, вышла.
В комнате стало сразу сине, пусто. И вроде бы холодно. Постель засияла голубым. И вокруг разлилась такая ясная, печальная тишь, что Борис Иванович поежился. За окном Сима, уходя, звякнула то ли фонарем, то ли ключами. Борис Иванович выждал немного и осторожно пошел по доскам к койке. Два года не спал он на ней. Все те же витые спинки, голубая краска пооблупилась. Еще мать когда-то красила ее «небесной» краской, и койка долго сохла на улице.
Постель обожгла холодом. Он как в прорубь ухнул — в перину, в подушки. Лежал не шевелясь, все никак не мог согреться, дрожь пробирала. Долго не мог заснуть. Страшно было закрывать глаза в таком пустом доме, аж дыханье спирало. А может, это от запаха краски? Борис Иванович прикрыл глаза — тихо-то как! И где-то пацан спит на чердаке. Мишка. Плохо сын его встретил, плохо. Он сел, решил закурить, но пачка осталась на столе, идти не хотелось, и он опять лег в нагретое место. И чего он спешил сюда?.. Стало жаль себя, стало горько и одиноко в этой постели. Да, зря он все же не выпил на станции. Все было бы легче, проще.
Проснулся он от неясного шума и сразу узнал его. Где-то шел поезд. Борис Иванович даже узнал, что скорый курганский. Вот шум разросся и налетел — глухо загудела земля, дрогнул дом, и серый рассвет в окне гудел и подрагивал. Он подосадовал, что проснулся, а ведь когда-то спать не мог без этого шума, расписание знал наизусть.
Спал он плохо и проснулся еще раз с рассветом. Голое окно светлым квадратом висело в глубине комнаты. Остро пахло краской, и ни на что не хотелось смотреть. Что-то стукнуло в сенях. Дверь отворилась, и неслышно вошла Сима. Прежняя, тихая Сима, какой вспоминалась ему всегда: жакет внакидку, бледная, легкая. Постояла в сумраке, чутко прислушалась и, босая, прозрачная вся, пошла, как поплыла, к дивану. Сняла жакет и осторожно легла, прикрыв им ноги. Пружины тихо запели. Она сразу насторожилась и долго лежала не шевелясь в другом конце пустой комнаты. Потом успокоилась, облегченно вздохнула, легла поудобнее.
И тут он не выдержал. Позвал тихо:
— Слышь, Сима…
Она вздрогнула. Замерла вся, затаилась.
— А, Сим?..
Тихо. Ни шороха.
И он понял, что сейчас ее не дозовешься, не докличешься. Как с того света.
…Ярко, светло было в комнате. Рыжий пол так и рдел. Борис Иванович поднялся с жарких подушек, сел. Голова была тяжелая, как после выпивки. В доме тихо, пусто. Спустил ноги с кровати, босыми пальцами пощупал пол — не липнет ли. Нехотя обулся и пошел прямо по свежим половицам, оставляя пыльные следы.
В полумраке сеней — прохлада. По стенам, на лавках — узлы со всяким домашним добром, кастрюли. На стуле зеркало и старая фотография в раме под стеклом, где он в галстуке и Серафима — голова к голове. У дверей стояли полные ведра, голубела бутыль с молоком. Борис Иванович зачерпнул ковш воды и, распахнув дверь, вышел на волю. Охватило солнцем, зеленью, щебетом. Утро было чистое, звонкое. Трепалось по ветру разноцветное белье на веревке.
Борис Иванович обвел взглядом чистый двор, коровник с распахнутой дверью, вдали подсолнухи на огороде. Вид всего этого порадовал его, но голова была еще тяжелая, смутная. Он наклонился и, расставив ноги, стал лить себе на затылок. Вода обожгла шею, лицо, потекла за майку. Он фыркал, тряс головой, растирал затылок твердой ладонью.
А из сарая, опершись на лопату, все глядела и глядела на него Сима. Жадно глядела, как мужик моется, как трет крепкую шею, брызгаясь и пританцовывая. Потом воткнула лопату и пошла к нему через двор по светлой тропке.
— Погоди, полотенце дам, — в сенях из узла, стянутого платком, вытащила длинное полотенце.
Подала, ворчливо оправдываясь:
— Неглаженое. Затеялась я с этой покраской… Да кто ж знал…
— Да ла-адно, — подобрел Борис Иванович. Он прижал полотенце к лицу, похлопал, ощутил знакомый свежий запах простого мыла.
— Мишка на станцию