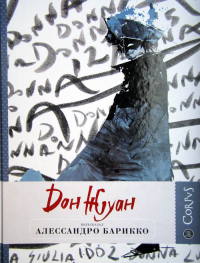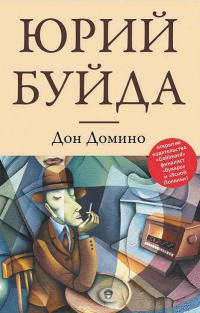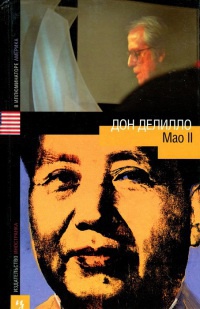Русский, кажется, начал пикировать следом, но уже через миг заломил скоростную рептилию на вертикаль, тотчас же, вероятно, атакованный Кенигом или кем-то еще. Выхожу из пике у зеленой земли – чем-то жалобно щелкнув, по-собачьи привизгнув, Минки-Пинки дрожит как ошпаренная, норовя покривиться и перевернуться. Мы – на Северном полюсе холода, и рули ее точно замерзли; мышцы мелко дрожат и звенят от натуги удержать ее даже на благонадежной прямой. Если б меня сдавила тяжкая, холопски-нищенская злоба унижения, то – все: нипочем бы не выписал сам себе никакого рецепта спасения. А вокруг никого, все остались верху, и, включив передачу, кричу:
– Всем велосипедистам! Говорит пять-один. Я хромой, я хромой! Всем, кто меня слышит, приказываю: в свалку не лезть. Уходить на Садовый забор.
– Вижу, вижу тебя, пять-один! Ухожу за тобой! – отзывается Дольфи; этот в свалку не лез никогда.
Я хочу видеть Буби. Но сперва в чистом небе на восемь часов возникают две точки с очертаниями «Густавов» – это, видимо, целые и невредимые Цвернеманн и Смиатек. Усмиряя дрожащую, как на сносях, Минки-Пинки, я гляжу на покинутый шпиль колокольни, в тот насыщенный русской обжигающей силой надел, из которого только что вывалился. Вижу Кенига, он уже рядом. Где Буби? Вижу, как закругляют свои траектории русские: сила ненависти ко всему, что помечено свастикой, не выносит их стаю за пределы квадрата, их железная коллективистская дисциплина сильней.
Я впервые почуял себя в настоящем плену, безвоздушно запаянным в эту консервную банку, бревном, что плывет по воздушной реке. Этот русский меня мог убить и едва не убил – не одной своей силой, не сам, а своим построением, геометрией стайного пеленга – этой новой, негаданной лестницей, убегающей наискось вверх от него самого. Он, наверное, снова тягуче заныл сквозь сведенные зубы: ничего он не сделал с моей неподсудной свободой. Я же ведь не окрасил черной копотной кровью среду, а не то бы сейчас их эфир захлестнуло торжествующим лаем: «Горишь!»
Но меня жжет другое: где Буби? Чья-то «шишка» всплывает вдали за хвостом, вырастает, позволив разглядеть желто-красный хохочущий нос Арлекина – «мессершмитта» с девизом, рожденным в чудовищных творческих муках: «Фокус-покус, в жопе дым – вот и стал иван другим!», и холодные зубы тревоги за брата наконец отпускают меня.
Мы смыкаемся с парой Цвернеманна – Смиатека и летим на Анапу – в похоронном молчании, хоть и взяли у русских больше жизней, чем отдали. Реша-младшего и безнадежного Клинсманна нет, смысла спрашивать, где они, тоже. Даже Буби молчит как утопленник. Мне придется сказать Решу-старшему, что его сын не вернется.
Проходимых пространств, коридоров над Кубанью почти не осталось, потому и свалились так быстро на нас эти «аэрокобры» – такова теперь плотность населения неба. Все вопросы о жертвенных агнцах, убиваемых нами еврейских детенышах улетучились, выпарились, как вода с моих крыльев в жестоком боевом развороте, и осталась одна первобытно-простая потребность уцелеть и убить, удержать эту новую стоэтажную Трою, этот жалкий мысок благодатной прибрежной земли. Мы не думаем о воцарении над равнодушным Кавказом – слишком много новейших машин бросил Сталин на завоевание кубанского воздуха. Все, что можно построить самим и купить, одолжить под залог своих недр у Америки, косяками, валами плывет на Анапу и Новороссийск: скоростные пузатые «аэрокобры» с их чудовищной пушечной мощью, безупречные в горизонтальном маневре «спитфайры» с полуторатысячным V-образным «роллс-ройсом», шеститочечные «киттихауки» с их воздухозаборными зобами под пропеллером, двухмоторные бомбонавальщики «бостоны» с дельфиньими носами и огромными уродливыми килями и, конечно, несметные выводки собственных бетонированных «Илов», мускулистых «Як-9» лаковых деревянных «Ла-5».
Я держу Минки-Пинки на курсе, управляясь с ней, словно кочевник с перепуганной лошадью, взмокший до лошадиного мыла от этой работы. Безучастно прозрачная пустота закипает – надо мною, над Буби то и дело вспухают безобидно-молочные облачка неуместных почетных салютов. Мы летим в прожигаемом трассами русских зениток пространстве, нескончаемый стонущий визг и прерывистый треск забивают мне уши, и моя помертвелая, битая девочка вся сотрясается от разрывов под самым ее бедным брюхом. Восходящий, достигший предельного напряжения шелест обрывается в самом моем животе – легковесная крышка капота взвивается у меня пред глазами и вертится, как осиновый лист, под напором воздушной струи. Рефлекторным движением перекрываю подачу бензина и выплевываю вместе с тлеющей ватой, переполнившей горло и грудь:
– Говорит пять-один. Парни, я освещен, лошадь сдохла, сажусь на живот. Уходите, не надо смотреть, как я буду пахать эту землю.
– Герман, брось, подожди, протяни хоть немного! Километр до линии, Герман, прошу! – кричит мне Эрих, словно вырываясь из цепких смирительных рук санитаров и отчаянно силясь просверлить пустоту, разделившую нас. Его голос дрожит, словно от глупой детской обиды за старшего брата, которого он почитал всемогущим. – Хоть немного за линию, Герман! Планируй! Ну, давай! Я прошу! Без мотора! Как на нашей «Малютке Грюнау», ну! Вспомни!
– Ты уже не желаешь быть первым в эскадре, мой мальчик? Как же так? Только я захотел уступить тебе место… – говорю я ему.
Он что-то кричит, но я уже весь состою из усилий расправить себя на воздушном потоке. Истерзанная девочка моя еще не стала бесформенным, неуправляемым предметом, по курсу – большое пустынное поле, налево – скопление соломенных крыш.
Захлебываясь собственной вонью, я вижу недвижно застывшие шлейфы дегтярного дыма над той деревенькой – быть может, сейчас там идет насекомый, ползком, перебежками, бой. Иду по глиссаде к расчесанной гребнем земле – сейчас мой «Тюльпан» станет плугом. Валящий в кабину удушливый дым дерет мне глаза и мешает мне видеть. Вытягиваюсь в сенокос, шершаво мелькает земля под крылом, так близко, что кажется, я уже вижу отдельные комья, кротовые норы, но это – внизу, а по курсу – большое, широкое серое что-то… вещественнонеотвратимое! Простейшим корчующим телодвижением тяну на себя самолетную ручку, но вес бесконечной плиты придавил, изорванный нос не вздымается. Притянутый русской землей, иду брюхом прямо на серую крышу сарая не вытерпеть боли огромной, мгновенной, оттенки которой уж неразличимы… Притерся-вонзился-вломился и еду, просаживая громовую громаду расколотых, смятых, оторванных, кромсающих, рвущих, дробящих слепых, косных балок, стропил, перекрытий, взрезая визжащее брюхо, нутро, взмолившись: ну хватит! сотри, разорви, не мучь, не растаскивай плоть по кускам… Но будто в насмешку меня все молотит… теряя сознание от боли и тут же в себя приходя от ударов, не стерся до дыр, проломился, увяз, последним ударом швырнуло вперед и выбросило из машины куда-то, сорвав наконец-то дыхание и вырвав из черепа нудное, тошное все.
Сижу, как на троне, в звенящей литой пустоте, и все не могу понять, где я и кто я. Нет ни силовой установки, ни крыльев, ни даже моей плексигласовой кровли, вокруг меня одна невиданная голая, безжалостно обыкновенная земля. Луплюсь на лохмотья дюраля, приборную доску, пучки рваных жил – оторвано, стесано, срублено все, остались лишь кресло, педали и ручка. Остался – я сам.