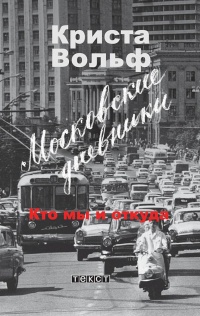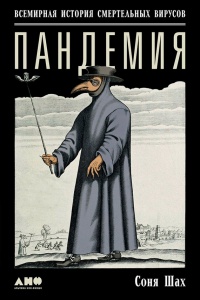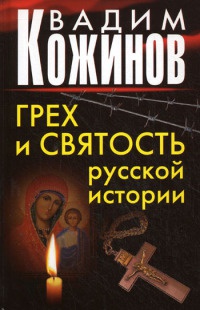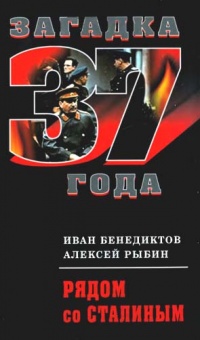быть живой. Еще полгода. Потом делайте с ней что хотите. Но эти полгода Сонино время. Время жизни, время женщины, сигналы Точного Времени. Самого точного.
Соня шла вдоль края тротуара, нетерпеливо вытянув вперед правую руку, голосуя пролетающим мимо машинам. Она дрожала от нетерпения: скорее, скорее, скорей! Она торопила время, подхлестывала медленное, сонное течение теплого сентябрьского дня. Нужно перетерпеть, переждать, отбыть пять долгих часов в присутственном месте.
Зато потом, после шести вечера, сонное, неподвижное, неповоротливое время словно с цепи сорвется. Оно рванет вперед, стремительно, не догонишь. Оно помчится вперед, теперь каждая минута будет иметь свою цену, каждый час будет на вес золота.
Нужно собрать вещи, самое необходимое, на первое время. Отвезти Сашку на выходные к старикам на дачу, пусть мальчик побудет там. Подальше от Сережиных истерик, от разбитых тарелок…
Нужно будет поговорить с сыном. Не сказать ему правды, но и не солгать. Как это сделать? Как?! Вот придет эта минута — и слова найдутся.
Мать, отец, Сережа… Соня найдет нужные слова для каждого. Настанет час — слова найдутся…
За окном машины мелькали пролеты Крестовского моста. Соня оглянулась назад — Рижский вокзал. «Вокзал, несгораемый ящик разлук моих, встреч и разлук»… Это Пастернак Это твоя жизнь. Вокзал, растерянное, потное лицо Фридриха, отступающего от Сони к дверям вагона… «Вокзал, несгораемый ящик». Все встречи — позади, впереди — разлуки.
Еще мелькали за окном такси пролеты Крестовского моста. Внизу железная дорога, там мчится состав.
Железная дорога. Соня теперь тоже железная. Броня крепка! Полчаса назад Сережа бросил ей, уходящей, в спину: «Стерва. Железная стерва. Всю жизнь в тургеневскую девушку рядилась, а я верил. Дурак!»
Стерва? Железная? «Вокзал, несгораемый ящик..» Называйте как хотите! Она и сама себя не пощадит, «…разлук моих, встреч и…». Вот привязалось!
Она и сама себя не пощадит. Но наступает ее время. Нужно быть очень сильной. Прямой, как прямая ветка. Железной, несгораемой, сильной, безжалостной и прямой. Впереди полгода Точного Времени. Нужно ему соответствовать. Нужно быть точной.
Таксист притормозил у центрального входа.
— Сколько? — спросила Соня, открывая сумочку.
— Так вы прям тут работаете? В телевидении? В самом? — Таксист уважительно присвистнул. — Тогда уж вы-то точно в курсе: чего мы сбили-то сегодня ночью? Я «голоса» ловил-ловил — не, ни хрена, наши их с утра глушат по-черному. Что за самолет-то, почему сбили, просветите!
— Я ничего не знаю, простите. — Соня сунула ему деньги и выскочила из машины.
Бегом, бегом… Вертушка пропускника… Суровый лейтенантик минуты три всматривался в Сонино фото на пропуске.
— Это вы? — наконец недоверчиво спросил он.
— Я. Фотография месяц назад сделана.
— Надо же. — Он усмехнулся, протянув Соне пропуск. — Обычно наоборот бывает. На фотографии человек моложе, чем в жизни. А вы…
— Третьяков, ты чего разговорился на посту? — хмуро одернул его напарник.
— Вам на фото лет сорок пять, а вот так… — Третьяков покраснел, даже уши вспыхнули, заполыхали огнем веснушчатые мочки. — А виз… визуально лет на десять меньше.
— Спасибо, — улыбнулась Соня.
Она вошла в лифт, тевешный десант в поднебесье. Спасибо, белобрысенький мальчик в погонах. Соня помолодела на десять лет. Там, на фото, сделанном месяц назад, — усталая, сорокапятилетняя несчастная баба. Тургеневская девушка-переросток. Теперь она выглядит на тридцать пять. Вот что с нами делает любовь. Волшебное снадобье, заветное зелье. Деготь меда. Вот-вот — деготь меда.
Сонины соседи по останкинскому лифту обсуждали какой-то «боинг». Говорили о том, что «Евровидение» транслирует выступление Рейгана… О возможных санкциях… О том, что Америка нам этого не простит. И так отношения хуже некуда, а уж теперь… О том, что все это провокация, тщательно продуманная ЦРУ…
Пусть себе говорят. Соня стояла у самого зеркала, притиснутая к нему толпой. В лифте было душно. Люди возбужденно переговаривались, но все эти быстрые тревожные фразы, полуобмолвки, предположения совсем не занимали Соню, скользя мимо ее сознания.
На десять лет моложе! Она взглянула на свое отражение в зеркале: похудела, глаза стали еще больше… Нужно дотерпеть до шести часов вечера, а уж потом… Потом время сорвется с цепи. Шесть, семь, восемь, девять!
Андрюша обещал приехать к девяти. Господи, как дожить до девяти часов вечера? До закатного солнца, до Андрюшиного нетерпеливого звонка в дверь… Господи, сделай так, чтобы девять часов наступили как можно быстрее! Придумай что-нибудь, сжульничай самую малость! Вот, скажем, сейчас одиннадцать, а через час — половина шестого. Ну пожалуйста! Ты ведь все можешь.
Соня открыла дверь режиссерской аппаратной.
Надо же, все в сборе. Сгрудились возле экранов. Это не ЦТ. Это «Евровидение». Для домашнего останкинского пользования. Домашние запретные радости: тут тебе и Си-эн-эн, и Эй-би-си.
Эй-би-си на небеси… На седьмом останкинском небе, у кончика шприца. Смертельный яд вражеских телесетей, мы его дозируем по капле. Говорят, есть лекарства, в которые добавляют по капле яда, тогда они действенней. Вот и мы: каплю яда от Эй-би-си в нашу советскую, идеологически выдержанную, взвешенную на аптекарских кремлевских весах телевизионную микстуру…
— Андрей Иваныч, здрасте, я сегодня всего на четыре минуты опоздала!
Сонин начальник отмахнулся, не повернув головы. Он смотрел на экран монитора. Президент Всея Америки, неувядаемый, отчаянно молодящийся старина Рональд стоял за трибуной конгресса, жестикулируя с преувеличенным пылом, сверх всякой меры гримасничая. Плохой актер, всего-навсего плохой актер. Вот гримаска благородного гнева, вот гримаска неподдельной скорби. Бездарный актер, все швы видны, грубая работа.
— Лена, ты чего не переводишь? — буркнул Андрей Иванович.
— Сейчас… Так… — пробормотала Лена, режиссерша дневного выпуска. — Ну вот, он опять про это… Советский Союз — империя зла. Русские непредсказуемы. От них можно ждать чего угодно, сегодня ночью они еще раз доказали нам это…
— Козел старый! — процедил Сонин начальник, глянув на Кириллова, сидящего здесь же, у стены. — Да, Игорь? Согласен? Провокатор. Гапон!
Кириллов молчал, хмуро глядя на экран. Соня никогда его таким не видела. Соня привыкла к тому, что Главный Останкинский Лев всегда мил и весел, всегда у него сорок хохм наготове, и все свежие, и все смешные.
— Лен, ты чего молчишь? — нетерпеливо прикрикнул на режиссершу Андрей Иванович. — Переводи! Разучилась, что ли?
— Тут разучишься, — вздохнула режиссерша, вслушиваясь в громовые раскаты президентского баритона. Рейган зазывал, витийствовал, форсируя голос, как старый трагик в провинциальном театре, которому семь лет не давали главной роли. — Он говорит, что сегодняшнее ночное происшествие должно послужить уроком…. Так… для всех цивилизованных стран.
— «Цивилизованных», — хмыкнул Андрей Иванович. — А мы, значит, резервация. Лепрозорий. Тифозная деревня. Да, Игорь? Тифозный барак!
— …и что все цивилизованные страны должны объединить усилия для того, чтобы дать отпор…
— Ага! Я ж