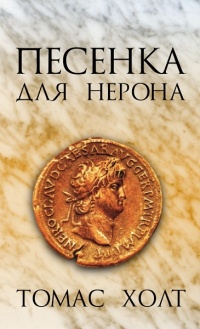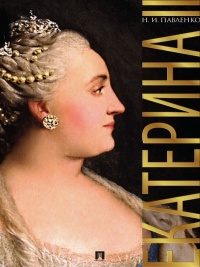Приблизительно через год после прихода Эфроса на Таганку я подала заявление об уходе. Написала письмо Эфросу. Но потом он меня вызвал, поговорил, успокоил – он удивительно мог успокаивать.
Он был очень демократичен, с ним у меня не было этой дистанции: главный режиссер и подневольная актриса. (У меня перед Любимовым был комплекс ученичества.) Я вообще очень ценю редкое сочетание таланта с демократизмом в работе. Так это было с Тарковским, с Анатолием Васильевым, так совсем недавно – с Евгением Колобовым. Так и с Эфросом. Я его не боялась, и он меня, конечно, уговорил остаться. Но то письмо у меня сохранилось:
Анатолий Васильевич!
Я пишу Вам, чтобы как-то избежать тяжелого для меня разговора после подачи заявления об уходе из театра. Мне трудно объяснить однозначно и просто причину. Но основная – та, про которую я Вам еще зимой прошлого года говорила, еще до Вашего прихода на Таганку. О том, что мы будем присутствовать при агонии старых спектаклей. Поскольку за ними никто не смотрит, они полностью разрушились. Я писала директору театра письмо с предупреждением, что если «Деревянные кони» и «Три сестры» будут идти так, как они идут, я играть их не буду. Но это ведь в театре воспринимается или как каприз, спонтанный выплеск эмоций, или как «очередное предупреждение», на которое никто не обращает внимания. Я пробовала сама выяснять отношения с осветителями, радистами, некоторыми актерами, которые не держат рисунок, – но, опять-таки, этого в лучшем случае хватало на один-два спектакля. Я чувствую, что у меня когда-нибудь разорвется сердце на спектакле от напряжения, накладок, отрицательных эмоций, от плохой своей и чужой работы. Мы повязаны одной веревкой: один делает плохо – все валится в пропасть.
Мое заявление и уход из театра – от чувства самосохранения…
Извините, что не поговорила с Вами до подачи заявления, но Вы мне как-то сказали в разговоре: «Если что-нибудь решите для себя – скажете». Я решила.
Всего Вам доброго.
2 февраля 1985 года.
Что же касается прихода и смерти Эфроса, возвращения Любимова и того, какую роль в этом возвращении сыграл Губенко, – тут лучше приводить факты. Поэтому я и привожу мои дневниковые записки, которые более конкретно говорят о происходящем. А что касается «конфликта» Эфроса – Любимова – «Таганки», то здесь как в трагедии: нет правых и виноватых.
1984 год
6 марта
Любимов лишен гражданства.
11 марта
Приказ о назначении Эфроса худруком «Таганки».
20 марта
Представление Эфроса труппе. Я на это собрание не пошла.
1985 год
3 января
Пытаемся восстановить «Вишневый сад»… Губенко – на Лопахина. Коля сидел с магнитофоном и уже переписанной от руки ролью. Задавал бытовые и социальные вопросы. Он, конечно, будет неприятен для меня в Лопахине…
4 января
Губенко отказался репетировать Лопахина, сослался на болезнь жены. Думаю, что понял – несовместимость…
5 января
…Эфроса положили в больницу. Оля говорит, инфаркт, но, видимо, просто сильный спазм.
28 января
Звонила Дупаку[3] о световой репетиции – все нарушено. Он сказал, что Филатов и Шаповалов ушли из театра.
1 февраля
Вечером – «Кони». Очень плохо по всем статьям. Написала заявление Дупаку об уходе.
3 февраля
Написала письмо Эфросу. Вечером дома у Эфроса – долгий разговор. Решили – я заявление не беру, а за два месяца что-нибудь решится.
Эфрос говорит, что готов к реорганизации театра. 25% – на конкурс. Старые спектакли постепенно снимать с репертуара. Он говорит, что ему не трудно, а трудно было только летом, когда его обвиняли…
10 февраля
Эфрос провел изумительную репетицию «Вишневого сада». Говорил: стиль необязательной, несмонтированной хроники. Пробалтывание, бабочки. Птицы порхают, а среди них ходит человек (Лопахин) и говорит – не летайте тут, здесь шрапнель, а они не слышат. Монолог о грехах – как крик покаяния Богу на ноте истерики. На Лопахина – Гребенщикова, Бортника, Дьяченко.