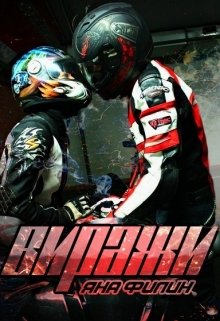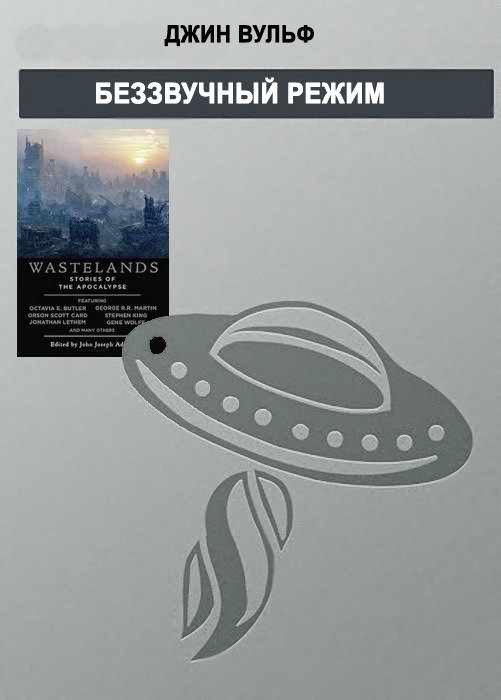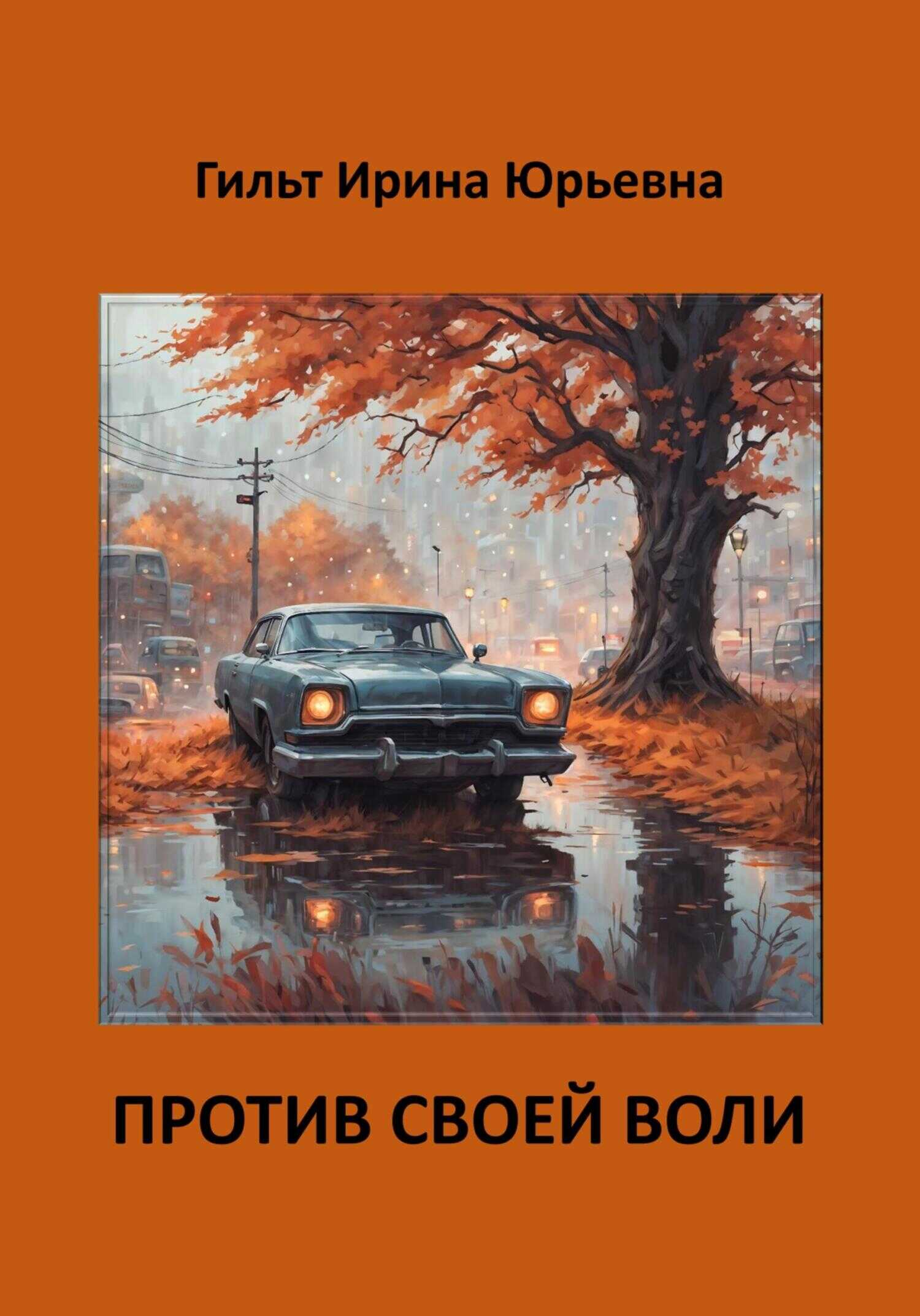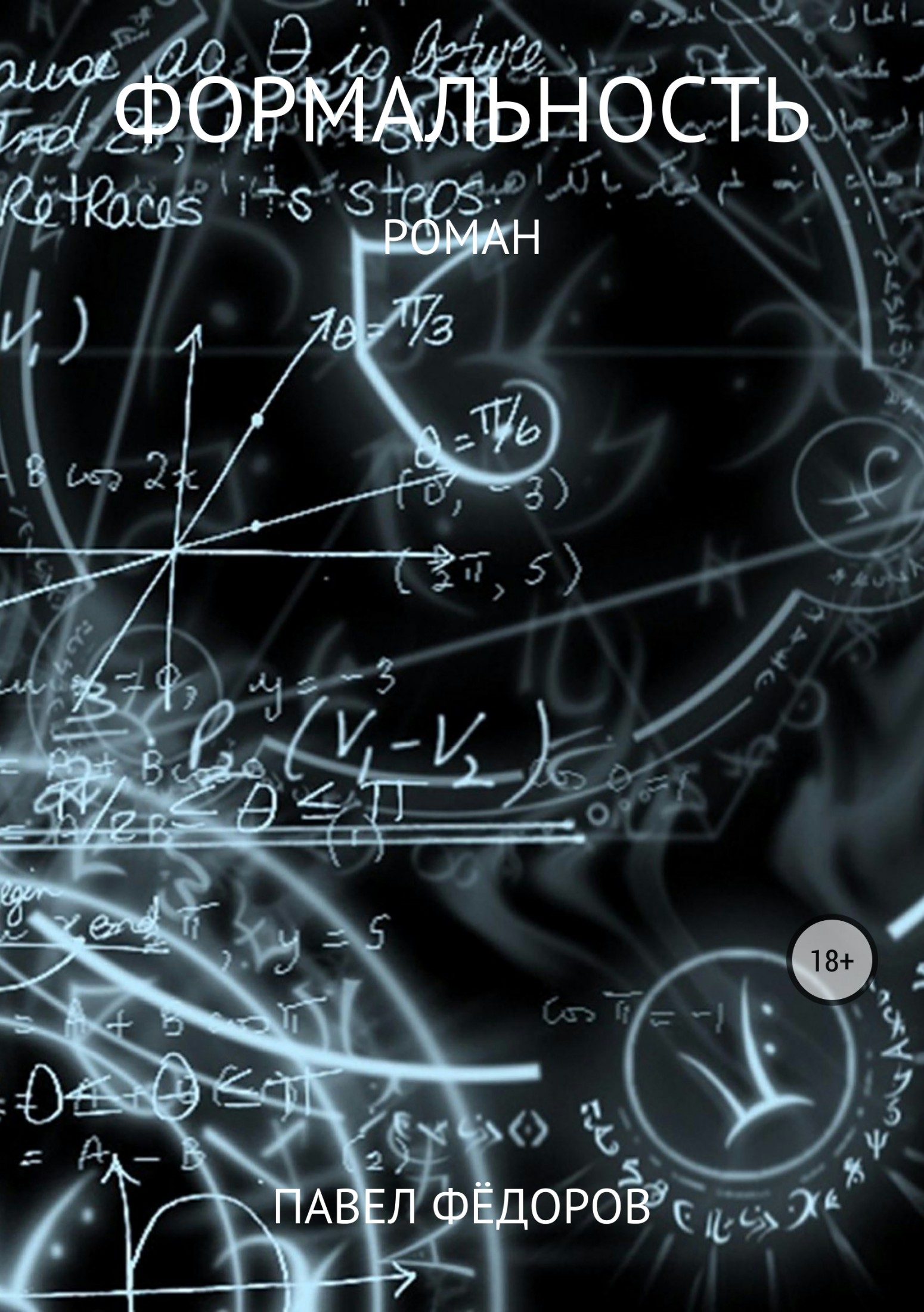как этот широколицый приветливый парень с меховым капюшоном, вчера утром махавший нам рукой с другого конца улицы, лежит сейчас на снегу с простреленным глазом, я подумала, не было же выстрела, мы бы услышали выстрел.
Андрей дернул плечом, вывернулся из-под Сережиной руки и, подойдя к столу, с размаху положил на него пистолет — почти бросил, как будто он был горячий, как будто держать его было больно. Потом он сел на стул, и сложил руки перед собой.
— Ничего я не сделал, — сказал он, — я отдал ему эту чертову коробку.
— То есть как — отдал? — спросила Наташа и встала.
— Отдал, — мрачно повторил он, не глядя на нее. Какое-то время все мы молчали, а потом Наташа осторожно придвинула себе стул, снова села напротив мужа и сказала, тихо и медленно:
— В этой коробке — тридцать банок тушенки. Это тридцать дней жизни, которые ты подарил совершенно незнакомому мужику. У тебя же был пистолет, почему же ты не стрелял?
— Да потому, что он так и сказал — ну, стреляй! Понимаешь? — закричал Андрей и поднял наконец голову. — Я был в пяти шагах от него, он стоит, держит эту коробку, она порвалась, когда он ее вытаскивал, и несколько банок выпало на снег, а он поворачивается ко мне и говорит — давай, стреляй, если хочешь. У нас там дети голодные, а в этом проклятом поселке мы нашли только полмешка проросшей картошки. Стреляй, сказал он, все равно мы тут подохнем. Я не смог. Я отдал ему эту сраную коробку. Наверное, я не готов убить человека из-за тридцати банок тушенки. Наверное, я вообще не готов убить человека.
— Не надо никого убивать, — сказал Сережа и снова положил ему руку на плечо. — Мы просто сейчас пойдем к ним вместе, и им придется все отдать. Они же вчера показывали, где остановились, — такой дом с зеленой крышей.
— Не пойду я никуда, — сказал Андрей, — бог с ними. Пусть едят эту тушенку.
— Знаешь, сколько еще по дороге мы встретим людей, которым нечего есть? — сказал папа. — Он украл ее, эту коробку. Так нельзя. Пойдем — надо расставить точки над «i». Мишка, за старшего остаешься!
Когда они ушли, не говоря больше ни слова, папа и Сережа — с оружием, Андрей — с голыми руками, отшатнувшийся от ружья, протянутого ему Сережей, словно это была ядовитая змея, а Мишка пулей вылетел на веранду, чтобы хоть краем глаза увидеть, что будет происходить на соседней улице, мы остались в комнате одни — четыре женщины, раненый мужчина и двое детей, беспомощные и испуганные. Мы боялись даже смотреть друг на друга, боялись разговаривать, потому что нам было ясно, что где-то совсем недалеко отсюда произойдет сейчас что-то очень плохое и страшное; и теперь, в этом новом, непривычном мире с его безжалостными законами, которые нам приходится учить на бегу, отбрасывая вещи, в которые мы привыкли верить, вещи, которым нас учили всю нашу жизнь, все, что может сейчас произойти в маленьком дачном домике с зеленой крышей на соседней улице, — совершенно не наше дело, и ни одна из нас не может уже никак на это повлиять.
Не знаю, как долго мы сидели так, слушая собственное дыхание — в какой-то момент детям надоело сидеть смирно, и они завозились на полу, и почему-то это было еще хуже, чем если бы стояла абсолютная тишина. Наконец Мишка стукнул в дверь: «Идут!» — сказал он глухо, и еще через несколько минут дверь открылась, и все они вошли, расталкивая друг друга в дверях, не стряхнув снега с ботинок, вошли и замерли у дверей, и мы смотрели на них, и боялись спросить, я пыталась поймать Сережин взгляд, но он не смотрел на меня, а потом вдруг Андрей сказал:
— У них там дети, дети больные, я вышиб дверь, мы решили — это будет правильно, выбить дверь, не стучать, потому что мы пришли поговорить как следует, а там всего одна комната — и они лежат, две девчонки, маленькие совсем, и кровь на подушках, и запах — такой ужасный запах, они даже не испугались, мы стояли там, на пороге, как идиоты, а они лежат и смотрят на нас, как будто им уже все равно, и эта чертова коробка стоит на полу, они ее даже не открыли, понимаешь, они, наверное, все равно уже не могут есть. Мы даже не стали заходить. Ты прав, Серега. Здесь нельзя оставаться. Поехали отсюда к чертовой матери.
Следующие два часа мы собирали вещи — лихорадочно, торопливо, словно люди, находившиеся через улицу от нас, были как-то для нас опасны; папа с Сережей перегнали Лендкрузер и пикап обратно к нашим воротам и потом час или больше носили вещи в машины, освобождая место для сокровищ, обнаруженных в поселке, пока наконец Сережа, выходивший с очередной порцией багажа, не встал на пороге и не сказал:
— Слушайте. Мы ведем себя, как идиоты. Мы не можем выезжать прямо сейчас. Нам нужно хотя бы поспать. Будем караулить по очереди, как всегда, и ничего не случится. И давайте поедим. И баня уже, наверное, нагрелась.
Ни еда, ни баня в этот вечер не доставили никому удовольствия. Мы поели в тягостном молчании и засобирались спать сразу же, как только закончили ужинать. Перед сном я вышла во двор, а когда возвращалась, пес, все это время наблюдавший за нашими сборами, проскользнул следом за мной в дом и прошел прямиком в комнату, в которой спали теперь мы с Сережей; когда я легла, он потоптался немного у двери, а потом глубоко вздохнул и лег.
Я проснулась среди ночи оттого, что пес царапал лапой закрытую дверь — короткими, требовательными ударами; какое-то время я пыталась не обращать внимания на этот звук, но потом поняла, что он не успокоится, и встала, чтобы выпустить его. В центральной комнате было темно; на кровати, укрывшись до подбородка, спала Ира, крепко обхватив мальчика руками. Цокая когтями по деревянным доскам пола, Пес уверенно направился к выходу — мне пришлось надеть куртку и выйти с ним на веранду, и сразу же, как только мы вышли, я поняла — что-то не так: вместо того чтобы сидеть, закутавшись в тулуп, Андрей стоял возле окна в странной, напряженной позе и кивал головой