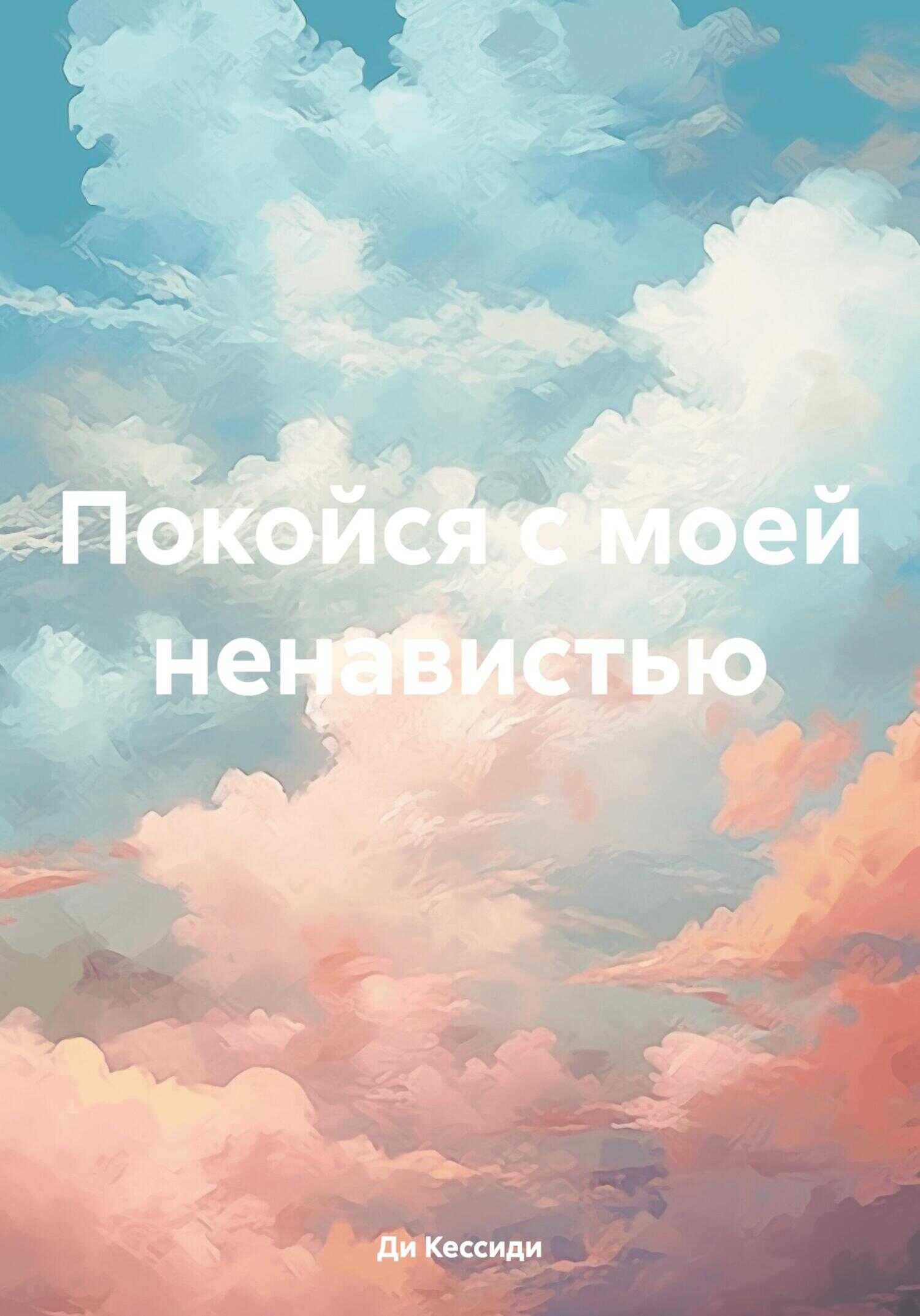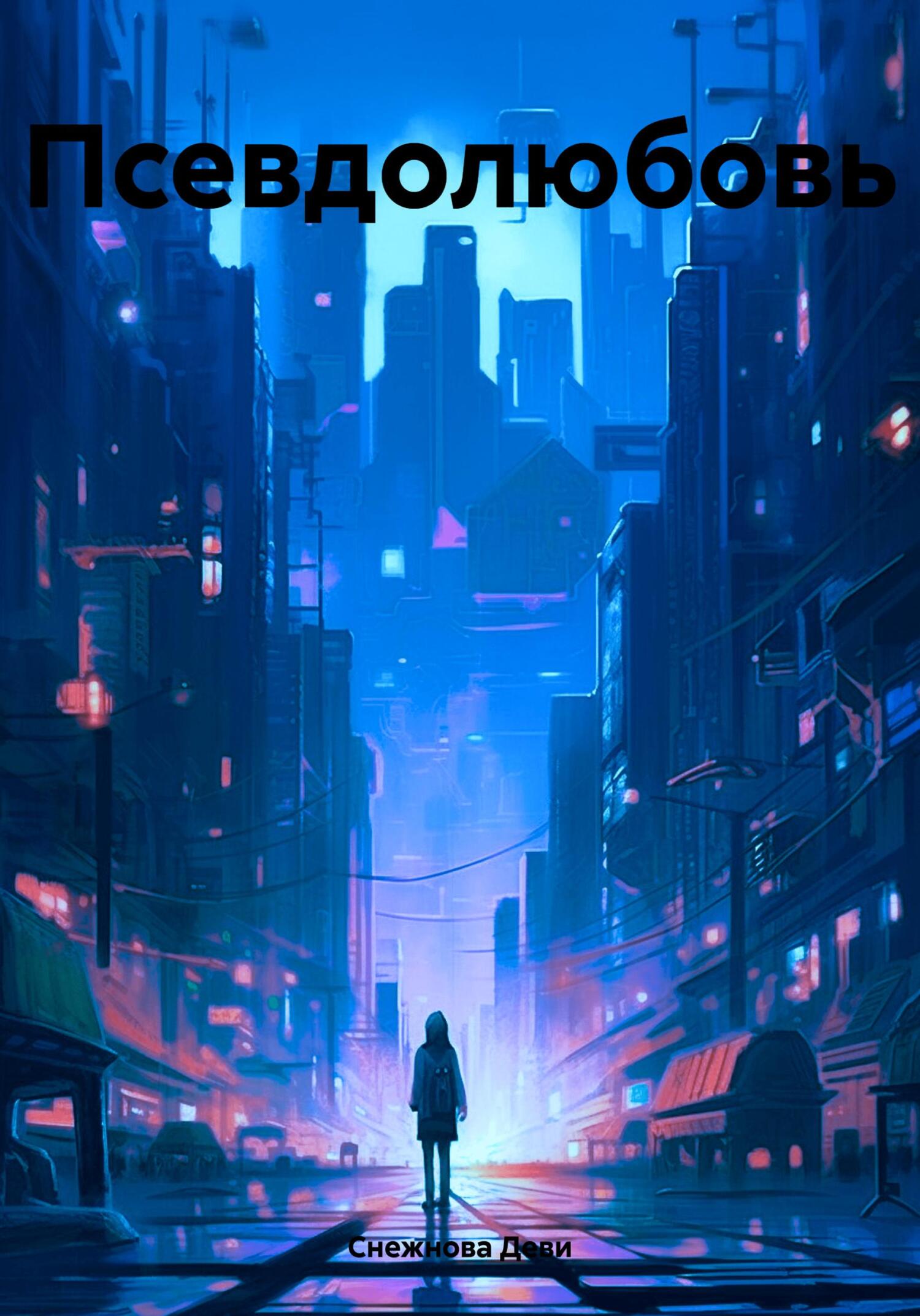и, понизив голос, я тихо спрашиваю:
– Тебе ведь понравились те серебряные подсвечники? И ты любишь красивые наряды?
Клио бесхитростно кивает, и я, снова ухватив ее за руку, иду вперед. На королевском этаже есть покои, запертые много лет, зато там ничего не тронуто. Уверена: моей новой подружке нужно их посмотреть. А может, нужно и мне, и я зря всеми силами избегала этого.
По символу на двери – оливковым ветвям – многое понятно, но Клио молчит. Молчит, когда мы останавливаемся, молчит, когда я подношу руку к замочной скважине, молчит, когда щурюсь и начинаю сосредоточенно поворачивать ладонь по часовой стрелке. В двери что-то тихо скрипит, потом щелкает. Довольная восторженным взглядом Клио, я киваю: да, поскромничала, кое-что я умею хорошо. Вскрыть замок, не ломая его, а потом еще запереть обратно – сложно; таким мелким фокусам долго учатся, это не то, что кидать людей в стены. Поэтому среди волшебников довольно мало высококлассных воров.
– А нам сюда точно можно? – все же доносится из-за спины, и я, берясь за ручку, уверяю:
– Принцессам можно везде. Ну, пока они не бьют окна и не пишут ругательства на стенах.
Я открываю дверь и первой переступаю порог, задержав на секунду дыхание. Не знаю почему, но жду, что в нос ударит запах тления, а не эта пресная пустота. Клио входит следом и восхищенно ахает. Есть от чего: просторная экседра вся расчерчена солнечными полосами из-за полузадернутых штор; свет играет на отдельных предметах, заставляя их ослепительно сверкать.
Здесь тот же серебряный зверинец подсвечников: антилопы и львы, павлины и журавли, волки и кабаны. В виде животных – вставших на дыбы лошадей – выполнены ножки всей мебели. Пол мозаичный, как в купальне, но из камней теплых тонов: яшмы и аметиста. Клио ступает по нему почти благоговейно. Пробегает к ближайшему окну, отодвигает штору, окидывает взглядом восхитительный морской вид.
– Ух…
Я молчу. Подняв голову, встречаюсь взглядом с отражением – потолки зеркальные, точнее, стекло вделано в них фрагментарно, то там, то тут, так что никогда не знаешь, где встретишь своего двойника. Я обожала эту игру в детстве – скакать по полу, задрав голову, и удивляться тому, как проступают наверху мои перевернутые копии. Это казалось окошками в другой мир. Окошками, которые можно отыскать только здесь. Мама ворчала: «Не разбей, Орфо, осторожнее, или мы будем несчастны». Я была слишком мала, чтобы допрыгнуть хоть до одного зеркала. Все они целы. Но мы…
Да, мы несчастны куда больше времени, чем предполагает правило разбитого зеркала.
Клио отступает от окна, проговорив:
– В Игапте нет домов больше двух этажей, высокие только пирамиды. А наш дворец в Физалии так далеко от моря… – Она проводит пальцем по ближайшему подсвечнику, выгнувшей спину кошке, и хмурится, увидев плотный слой пыли.
– Пойдем дальше, – зову я, прежде чем она бы что-то спросила.
В спальне подсвечники другие, это обитатели моря: осьминоги, дельфины, рыбы, коньки. Темнеют глубокой синевой балдахин и покрывало на кровати, вся она напоминает колесницу Одонуса – того самого бога, чьи дочери наплакали Святое море. Клио замирает возле трюмо, отражается в его зеркале, обрамленном деревянными раковинами и кораллами, осторожно трогает ряд перламутровых флаконов с духами и тоже находит пыль. На этот раз она меня опережает:
– Кто жил здесь?
Использует глагол в верном времени. Нет выбора, кроме как ответить правду:
– Королева Валато. Мама. Та, кто развязала войну. – Кусаю губы. Смотрю как можно тверже. – Но я все равно хочу, чтобы ты побывала в ее эстесе[10]. Там… здорово.
Клио отворачивается от зеркала – из-за резкого качания волос мерещится, будто отражение не успевает за ней на полсекунды. Она смотрит глаза в глаза, пристально, без злости или удивления, но снова с тем чувством, от которого у меня все сжимается внутри.
– Мне так жаль, – говорит она, и хотя я ее не понимаю, улыбаюсь благодарно.
«Жаль, что тебе так не повезло».
«Жаль, что такая интересная женщина стала тираном».
«Жаль, что тебе настолько стыдно, что ты завела меня сюда исподтишка».
Что бы она ни имела в виду, она права. И она все еще не плюнула на пол.
– Пошли. – Выдавив только это, я прохожу вперед и отодвигаю портьеру из темно-синих мелких стеклышек, нанизанных на нитки. Она заменяет дверь. Клио быстро проскальзывает следом, и портьера с тихим звоном падает за ее спиной.
В эстесе тесно, душновато: тут лишь одно окошко, которое я спешу открыть. Морской запах щекочет ноздри, бриз ерошит волосы, и я, пробежавшись вдоль стен, царственно распахиваю створки всех шкафов. Юбки, туники, платья – чего только нет. Шелк и кисея, бархат и лен, батист и расшитые серебром ткани, названия которых потерялись в моей голове. Эти вещи, в отличие от всего остального, до сих пор пахнут не пылью, а маслами и духами. Некоторые даже теплые на ощупь, точно кто-то носил их совсем недавно. Я всматриваюсь в идеальные силуэты, щупаю гладкие ленты, пояски и пуговицы, золотую шнуровку и окантовку жемчугом, белым как снег. Маме не нравились розовые, черные и даже персиковые жемчужины. Только такие.
Клио идет медленнее, раз за разом поднимая взгляд к потолку – снова зеркальному, уже полностью, – и задерживаясь у каждого шкафа. Она ничего не трогает без разрешения, но, получив его, расслабляется: кое-что даже вынимает, прикладывает то к себе, то ко мне, бережно разглаживает, явно жалея, что столь красивая одежда долго висит без дела.
– Твоя мать все это надевала? – спрашивает она в какой-то момент, и я киваю.
– Думаю, хотя бы по разу. Она была большой модницей.
– У Лэлэйи и вполовину меньше одежды, и она скучная. – Клио прикладывает свободное белое платье в янтарной отделке к себе, потом ко мне и улыбается. – Похоже, она была с нами одного размера, то есть худенькая…
– Одного размера, – повторяю я и продолжаю помимо воли: – А сколько зла.
Не ответив, только бросив на меня еще один сочувственный взгляд, Клио вешает платье назад и проходит дальше. Снимает с верхней полки тоненькую диадему в виде ландышевого венка, даже взвизгивает от счастья – и водружает себе на голову. Ей безумно идет. А еще я почему-то представляю эту вещь на… Эвере, в его белокурых волосах. Совсем уже сошла с ума, но с ландышами он стал ассоциироваться у меня раз и навсегда.
Я возвращаюсь к окну, облокачиваюсь на подоконник и всматриваюсь в синюю даль, над которой кружат чайки. Вечер наступает медленно, но неумолимо – так же, как ужасное настроение, от которого