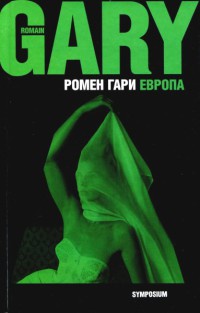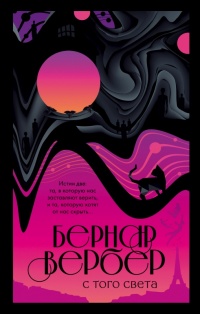Потом я сел и стал ждать Монтсе, делая вид, что ничего не произошло. Я включил радио и стал очень внимательно слушать новости: сообщалось, как заново отстраивают страну и что осень в этом году будет холоднее обыкновенного.
Я предполагал, что письмо оставило заметный след на моем лице, но, кажется, его разрушительное влияние оказалось более глубоким, потому что Монтсе, едва войдя, сказала:
— На тебе лица нет.
— Я плохо себя почувствовал после завтрака. Полчаса назад меня стошнило, — солгал я.
— Хочешь, я сварю тебе рис? Или яблоко почищу? — предложила она.
— Нет, спасибо, я лучше поголодаю.
— У тебя впали веки, как будто ты плакал, — заметила она.
Не исключено, что я плакал, сам того не осознавая. Впрочем, покраснение глаз могло объясняться и тем, что я слишком долго держал их открытыми, не моргая, застыв от удивления, сам себе не веря.
— Это от тошноты. Но теперь мне уже лучше.
Я пошел в туалет освежиться и, посмотрев в зеркало, увидел на своем лице скорее напряжение, чем горе.
— Тебе не кажется, что пахнет чем-то паленым? — спросила Монтсе, когда я вернулся.
На какой-то момент мне показалось, будто она пытается загнать меня в угол, словно мои объяснения ее не убедили. Я даже подумал, что она ждала этого письма и заранее знала его содержание.
— Я сжег на террасе кое-какие бумаги, — ответил я.
— Сжег бумаги? Какие?
— Старые бумаги.
— Я уверена, что это не те письма, которые я писала тебе из Барселоны, — пошутила она.
Я воспользовался этой ремаркой, чтобы перевести разговор в удобное мне русло. Я намеревался дать ей понять, что мне известно больше, чем я показываю, но при этом не выдать себя.
— Нет, это были письма, которые я написал тебе и не отправил, потому что не знал твоего адреса.
— Не верю ни единому слову. Ты никогда не говорил мне об этих письмах. Кроме того, ты мог узнать мой адрес в академии.
— Скажем так: это были письма, обращенные к тебе, но предназначались они для меня. Я писал их не для того, чтобы отправлять.
— И что в них было? — поинтересовалась она.
— Слова, за которые мне теперь стыдно. Поэтому я их и сжег.
— Ты никогда не стыдился выражать свою любовь — ни публично, ни в интимной обстановке. Это качество мне всегда нравилось в тебе.
— Я стыжусь не своих чувств, а своего прошлого, — возразил я.
— Ты стыдишься прошлого?
— Да. Перечитав эти письма, я понял, как был малодушен. Я всегда лишь фиксировал события, но не умел видеть в них истинного смысла. Мое прошлое было слишком правильным, если можно так выразиться.
— И это тебя беспокоит?
— Учитывая, что мир — неправильный, да. Многие люди мною пользовались.
— Это завуалированный упрек?
Нет, я ничего такого не имел в виду. Я просто хотел успокоить раненую гордость.
— Ты какой-то странный, — добавила она.
— Я просто устал.
И это была правда. Боль истощила мои силы.
6 января мы решили отметить Богоявление. Этот праздник совпал в Италии с Днем доброй колдуньи Бефаны. Бефана ходит в поношенной одежде, носит стоптанные башмаки и летает на метле — на ней она может с большой скоростью перемещаться по воздуху, приземляясь на крышах домов и проникая внутрь через каминные трубы, чтобы оставить подарки детям. В Риме центром этого праздника становится пьяцца Навона — там в этот день собираются все: от бродячих торговцев до уличных музыкантов.
Сильный дождь, шедший всю ночь, прекратился с первыми лучами солнца, и теперь сырость пробирала до костей, еще больше, чем холод. С Яникульского холма доносился пронзительный запах опавших листьев, которые лежали на влажной земле. Грязные воды Тибра стремительно неслись прочь, с оглушительным грохотом ударяясь о волноломы острова Тиберина, похожего на лодку, потерпевшую крушение. Улицы были пусты, и от этого острее чувствовалось одиночество. Мы с Монтсе шли молча, держась за руки, словно находились в незнакомой местности, стараясь запомнить все оттенки зимы. Например, чересчур скользкую sanpietrino[79]или карниз, с которого свисали огромные сосульки. Мы пересекли пьяцца Форнезе и Кампо-дей-Фьори, а когда добрались до Палаццо Фарнези, Монтсе, по обыкновению, повела меня к пьяцца Навона в обход.
Когда мы оказались на площади, все вдруг преобразилось: холод сменился человеческим теплом, одиночество превратилось в толпу, тишина — в звуки флейт и волынок.
Людское море внезапно затопило нас и оттащило к группе пастухов из Абруции, под музыкальный аккомпанемент которых Бефана пугала детей гримасами и ужимками:
— Se qualcuno è stato disubbidiente, troverà carbone, cevere, cipolle e aglio![80]— кричала она.
Но все малыши оказались послушными и за это получили шоколадки и карамельки. Момент вручения подарков был кульминацией праздника, повторявшейся для каждой новой группы детей. Давно я не видел счастья так близко, и мне взгрустнулось.
Катастрофа была неминуемой. С того момента, как я получил письмо Юнио, наши отношения постепенно шли ко дну, и теперь я уже даже не пытался вычерпать воду. И когда мы покинем наш корабль — это просто вопрос времени. Впрочем, может быть, и существовал какой-то способ спасти нас. Но мы его не нашли. Или, лучше сказать, я не нашел. Я предпочел возвести между нами стену молчания.
Однако, несмотря на то что я не выдал ни одной подробности моей тайны, душа моя была по-прежнему омрачена. Я целыми днями ходил подавленный, а длительные беседы с Монтсе преумножали мою горечь до такой степени, что у меня пропал аппетит. То, что я отказывался от еды и что настроение мое стало переменчивым, тревожило Монтсе, и она заняла позицию обороны. Так что, можно сказать, мы оба все время были начеку.
Я много раз готов был рассказать ей правду, потому что, пока я хранил эту тайну, во мне росло ощущение, что прошлое более живо, чем когда-либо, но не находил в себе мужества, чтобы сделать этот шаг. Когда наставал подходящий момент, сердце начинало учащенно биться в груди, легкие сжимались и слова замирали на губах.
Мы стали пробираться сквозь беспрестанно движущуюся толпу в поисках лотка, где продавались каштаны. Купив кулек, мы спрятались в подъезде, чтобы полакомиться, укрывшись от холода и чужих глаз. Потом на улице едва обменялись парой слов, как это с нами часто случалось в последнее время. Однако среди оглушительного праздничного шума в нас росло ощущение невысказанности. И тогда мое подсознание приняло решение за меня. Я как будто со стороны услышал, как произношу: