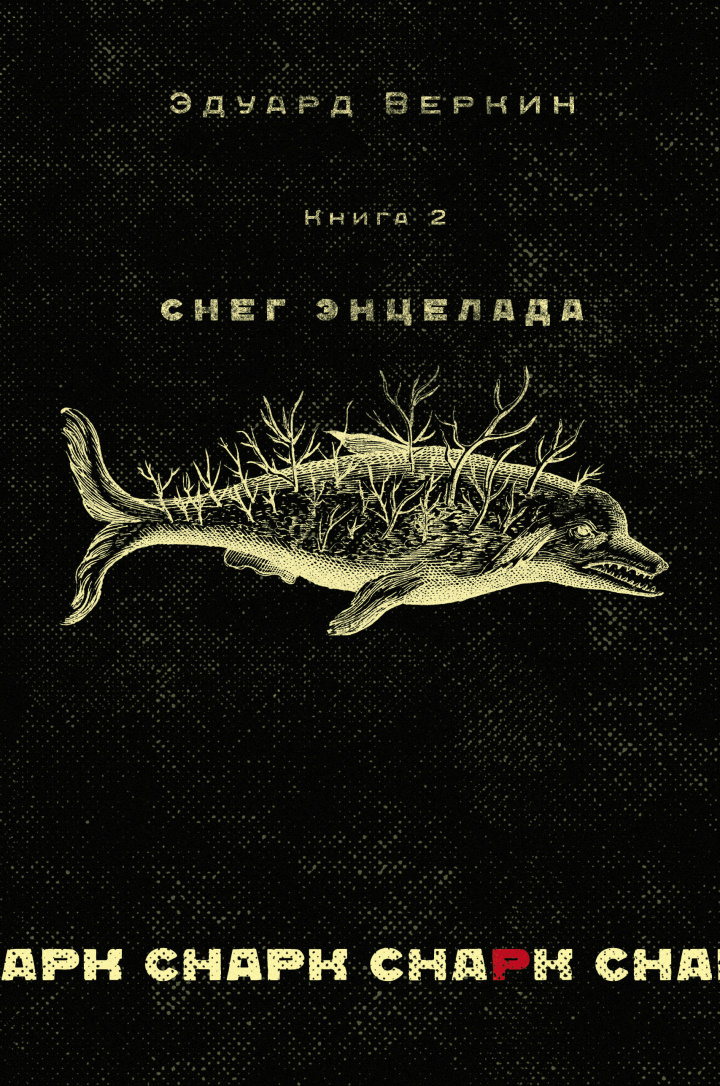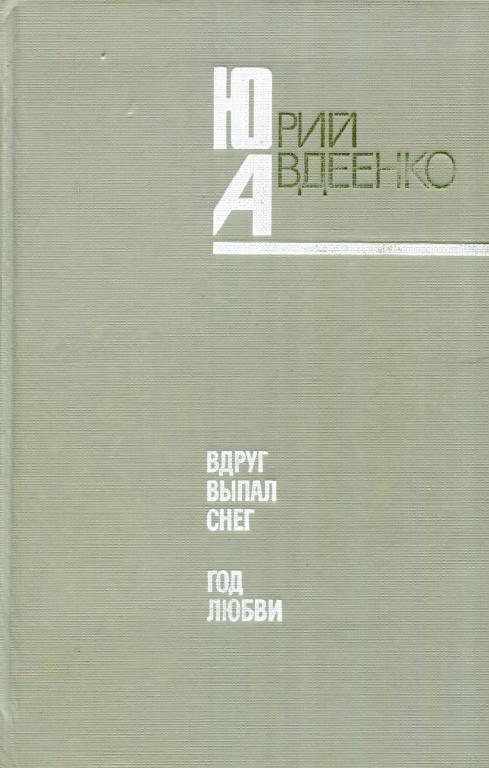class="p1">Макарий при орденах, сидит, задумавшись, пишет что-то, шевеля губами, на листах бумаги… А на трибуне председатель колхоза, бывает, замолчит, посмотрит в зал, и это мы понимаем, как сигнал к действию, начинаем хлопать в ладоши. Иногда нас поддерживают в зале, а порой и прикрикнут:
— Тише вы! Расшумелись!..
Я смотрю на Макария, у него невеселое лицо, изредка он поднимает голову, но тут же опять склоняется над бумагами. Чего уж он пишет, ума не приложу!..
Место в президиуме за Макарием закреплено давно. Не было на моей памяти ни одного собрания, когда бы его не позвали на сцену. Хотя нет, вру… Было однажды… сошлись вот как-то решать вопросы чуть ли не в районном масштабе, председатель оглядел собрание, одного позвал в президиум, другого… Про Макария забыл. Ну, тот посидел да и подался к выходу. Бабы начали шушукаться, приглядываться к тем, кто на сцене… Потом одна из них встает и говорит сурово:
— Отчего не вижу Макария? Куда подевали Макария?..
Председатель попытался ее успокоить, но куда там!.. — зашлась в крике: подавай ей Макария, и все… И собрание поддержало ее, зашумели, затопали ногами. Председатель и отступил, велел звать Макария… И тот не стал куражиться, пришел, занял свое место, привычно склонил голову и задумался…
Мы, пацаны, было время, звали Макария Задумчивым. «Глянь-ка, Задумчивый куда-то потопал…» «Ничего он тебе не сделает, Задумчивый-то, промолчит, как всегда…» Но услышал Макарий и сказал с обидою: «В сорок третьем, когда пришел с фронта и привез леденцы, говорили: «Дядька, миленький, спасибо…» А теперь что же, забыли?..» С того дня никто и не зовет его Задумчивым.
Мать сказывала, пришел Макарий с фронта, а на деревне одни бабы, и чуть ли не в каждом доме — горе… Слабый да калечный, а душа светлая, ходил по домам, говорил: «Ладно вам, бабы, слезы лить… Чего уж? Жить надо». А то и на гармони сыграет, и полегчает на душе у баб, и пусть льются еще из глаз слезы, а только уж не такие горькие… Бывал Макарий и в нашем доме, говорил матери: «Думаю, жалость и ненависть — одного поля ягода. Большая жалость к людям идет от большой ненависти к злу. Ах, сволочи фашисты! Сколько от них беды — и подумать страшно, и не соберешь ее, по всей земле расплеснута. Жалко мне баб, будто вся душа моя одной жалостью и живет».
А там и сорок пятый подоспел, и войне конец. Радоваться бы! Но померла жена у Макария, и пуще того затосковал он, почернел лицом. Было б и вовсе худо, когда б не люди… Приходили к нему в избу, едва ли не силком выталкивали на улицу: иди-ка поработай ноженьками, чего сиднем сидеть? А бывало, и молока приносили, и хлеба… И теперь еще приходят, не дают скучать. Оттого, думаю, и место ему определили на сцене, чтоб подолгу не оставался один. Мать говорит: плохо одному, хуже не бывает. Наверно, так и есть.
После собрания — танцы… Мужики и бабы уходят из клуба, остаются парни и девчата, а еще вдовы. Есть и пацаны, и я среди них… Пристраиваюсь подле Макария, смотрю, как он играет, слушаю музыку. Мне нравится сидеть подле Макария, чувствовать его неровное дыхание, видеть его глаза, чаще всего усталые, и смутно догадываться, отчего у него такие глаза…
Есть на деревне еще один гармонист, помоложе. Играет он не хуже Макария, но его не приглашают на танцы. Не доверяют. Однако как-то и ему пришлось сыграть, это когда Макарий слег в постель, простудился. Лихо играл гармонист, с перебором, и все улыбался, и глаза блестели хмельно. Парни и девчата, танцуя, с недоумением поглядывали на него: «Ишь, скалит зубы. Тронутый, что ли?..» Мало-помалу распались танцы. Потому и распались, что слишком лихо играл гармонист.
Макарий не торопит музыку и вроде бы даже с трудом поспевает за нею, такое чувство, будто через силу играет. Но это нравится людям, и они готовы кружиться в вальсе до самого утра. Я теперь думаю, что это происходило оттого, что не до веселья было в ту пору, не до лихости, а ходили на танцы по привычке, а еще потому, что и ходить-то больше было некуда.
Нынче танцы продолжались недолго. Макарий и я выходим из клуба последними. Он поправляет на плече ремень гармони, спрашивает, не глядя на меня:
— Зайдем ко мне?.. Я не возражаю.
В избе у Макария на столе стоит лампа, она едва светит. Макарий ставит на табуретку гармонь, прибавляет у лампы фитиль. Я вижу на кровати старую потрепанную книгу, лежит она, тускло светлея желтыми страницами, поверх разобранной постели. Подхожу, беру книгу, листаю…
— Про индейцев, — говорит Макарий.
— Про индейцев?..
— Понимаешь, Пушкина я уважаю, — со смущением говорит Макарий. — А читать люблю про индейцев. Хороший народ, смелый и к земле близок. Все про нее знает. И этим не кичится. Берет от земли только то, что она может дать. — Я с удивлением смотрю на Макария: он еще ни разу не говорил столько слов кряду, да еще о ком… об индейцах!.. Макарий видит это и еще больше смущается, осторожно, тремя пальцами берет у меня книгу, прячет под подушку.
Мы садимся к столу, и я говорю о ремонте школы, который теперь проведут без нас, сожалею, что без нас. Макарий смотрит в окно и словно бы не слушает, но когда я опять (уже в который раз!..) говорю, что лучше было бы самим довести ремонт до конца, он поворачивает ко мне голову:
— Я не верю, что лучше… Думаю, работать надо с настроением, а без этого — не работа, так, маета…
Помедлив, добавляет что-то про директора школы, нелестное что-то… Нелады с директором у него начались с того дня, как он пришел в школу. Я не раз замечал, как директор, морщась, смотрел на Макария, когда тот медленно, будто нехотя, подметал дорожки в школьном дворе, а потом носил суковатые чурки из сарая… А бывало, и говорил: «Больной человек, весь израненный, а туда же…» И не понять было: не то осуждает Макария, не то сочувствует ему…
Принял директор школы на работу Макария по просьбе деревенских баб, заладили: «Возьми сердешного, не будет обузою, кое-что умеет. А дома ему сидеть не с руки… Скукота!»
Директор долго не соглашался, надеялся: объявится наконец-то на деревне человек расторопный и ловкий, чтоб в стоге сена умел найти иголку. Не дождался, уступил бабам. Это когда они, будто сговорившись, стали во всех домах нахваливать его: и умный-то, и добрый-то,