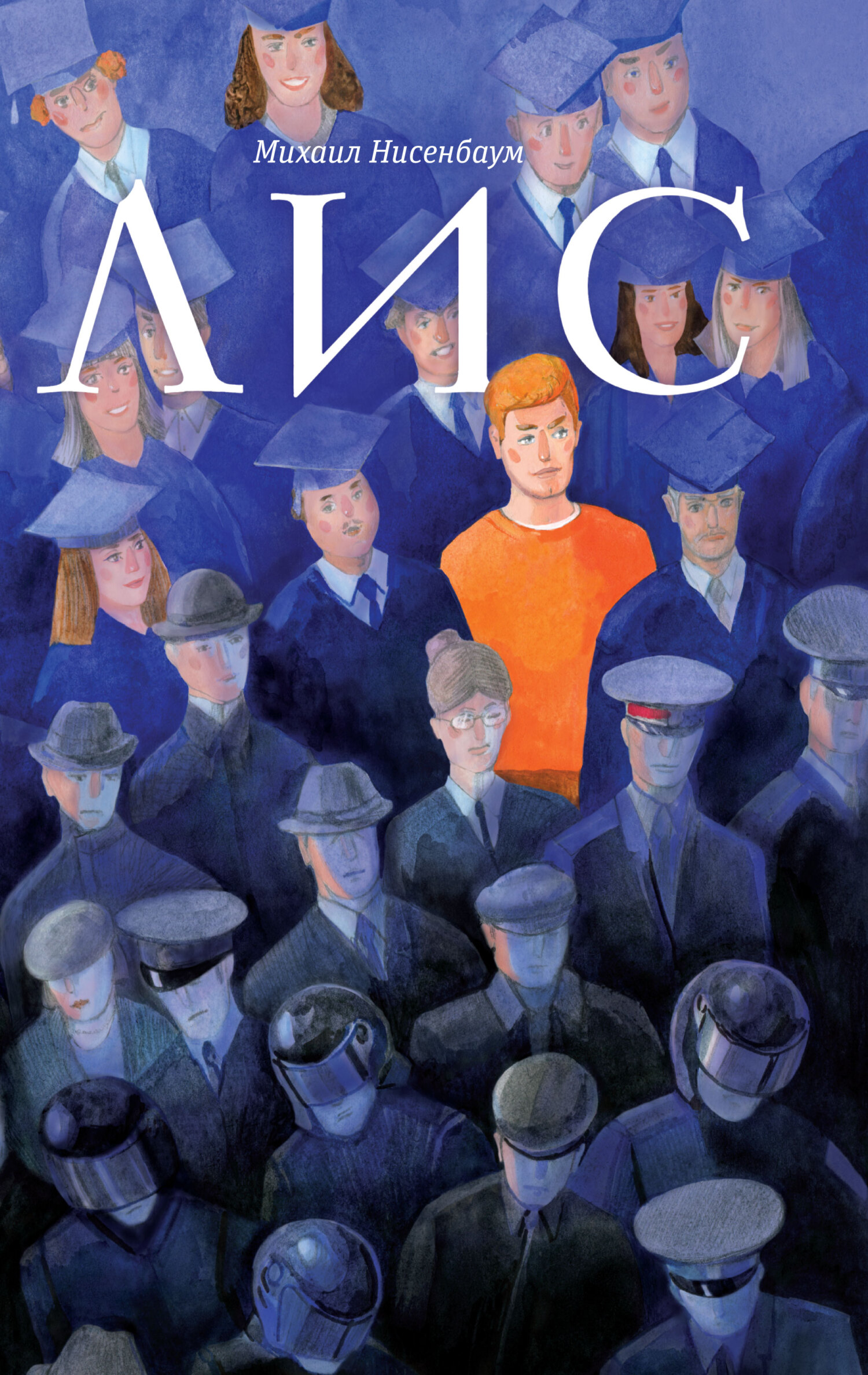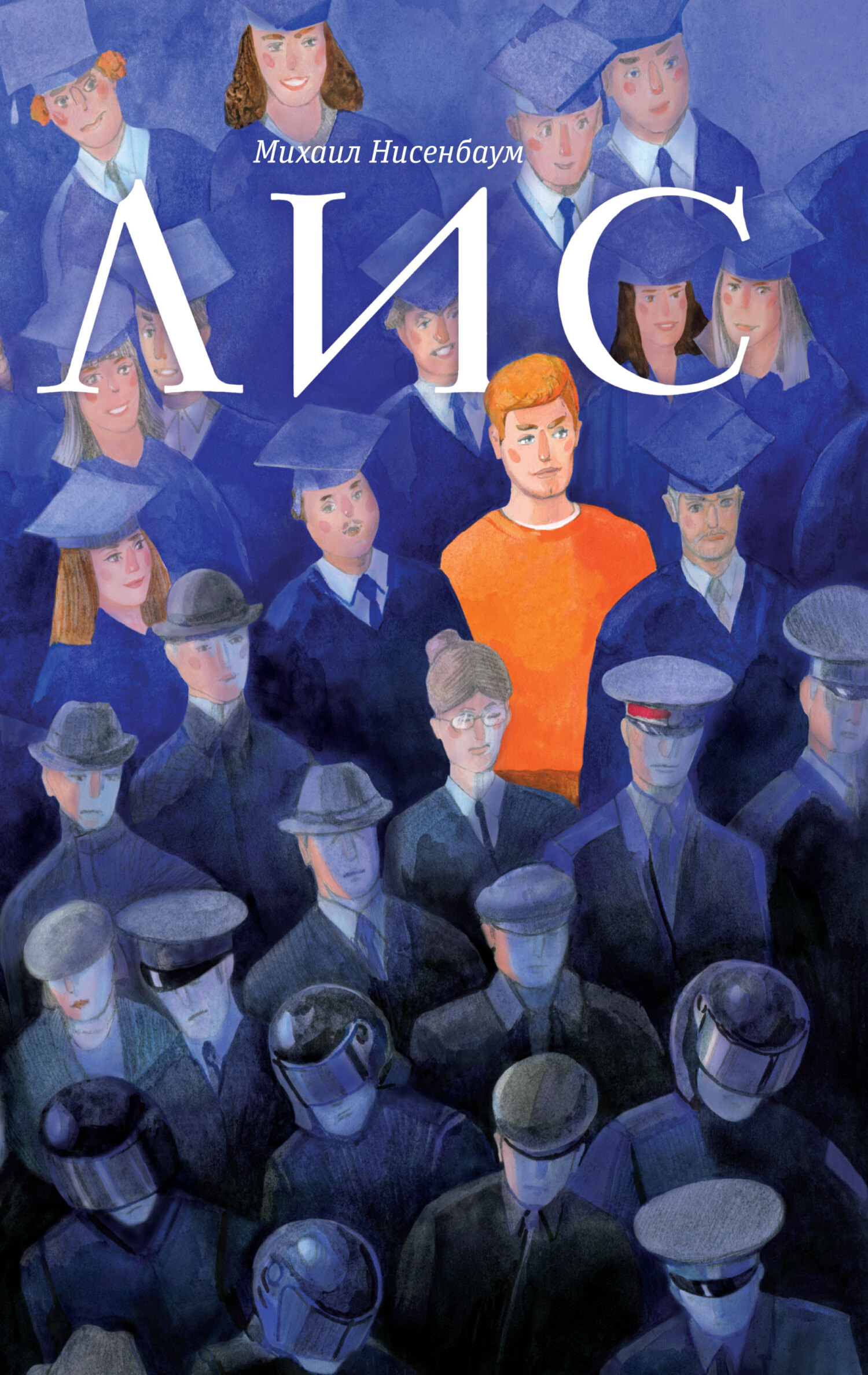замедляется! — раздается чей-то едва различимый в шуме крик, а первые вагоны уже проносятся мимо.
Я хватаю Пульгу за тонкое предплечье, такое хрупкое и костлявое, что страшно сжать его посильнее и сломать. Но я все равно тяну его за собой и бегу. У него не остается выбора, кроме как последовать за мной. И так мы бежим, стараясь ни в кого не врезаться и ни обо что не споткнуться, а нас хлещет поднятый поездом горячий сильный ветер.
Я не даю Пульге отстать, но состав несется с такой скоростью, словно задумал нас убить, словно хочет напомнить, что он — зверь, демон, существо, мчащееся сквозь ад.
Впереди я вижу других людей, которые тоже мчатся со всех ног, но не могут зацепиться за вагоны. Похожий на черное размытое пятно, поезд пролетает мимо так быстро, что мы не успеваем ничего понять, — и вот его уже нет. Нам остаются лишь дым и пыль. И мы, словно тени, хватаем ртами воздух, глядим ему вслед, согнувшись пополам, упав на землю.
— Все-таки он идет тут слишком быстро, — качая головой, говорит парню какой-то старик. Я начинаю нервничать, но старик смотрит на своего спутника и добавляет: — Ладно, hijo, сынок, надо идти дальше. В часе ходьбы отсюда есть поворот, там он сбавит скорость. Пойдем туда и будем ждать следующего поезда.
Они пускаются в путь, и те, кто подслушал их разговор, идут в том же направлении.
— Как думаешь, пойдем? — спрашиваю я Пульгу.
Но он сидит на земле и не смотрит на меня. Даже не слушает.
— Пульга!
— Видела, как быстро он ехал? — шепчет мой друг.
Его глаза крепко закрыты, словно он пытается избавиться от какого-то стоящего перед внутренним взором образа. Может, хочет забыть, как выглядел лежавший на земле Чико. Я тоже этого хотела бы.
— Я понимаю, понимаю, Иг говорю я ему, но он начинает трясти головой и колотить по ней, как будто хочет выбить то, что там застряло. Я хватаю его за руки. — Не делай этого, Пульга. Пожалуйста, пожалуйста… Перестань!
Он подчиняется и остается сидеть, безучастный, безжизненный, а старик с сыном и остальные, кто бежал вместе с нами, уходят все дальше.
Я тяну Пульгу, пытаясь заставить его встать.
— Надо идти, — говорю я ему. — Ты должен встать, пойти со мной, а потом нам нужно будет сесть на следующий поезд, понимаешь? Пожалуйста, идем.
Мое сердце бешено стучит, на лбу выступил пот. Я касаюсь лица Пульги, заставляя его посмотреть мне в глаза, и вижу, как мало осталось от моего друга. Чтобы вернуть хотя бы часть, я начинаю уговаривать его:
— Останься со мной, Пульга. Будь со мной и борись, о’кей?
Что-то в нем пробуждается, он смотрит, действительно смотрит на меня и кивает.
Я улыбаюсь ему, тому мальчишке, которого знала всегда, той его части, которая все еще тут и никуда не делась.
— О’кей, — говорит он и тянется к рюкзаку.
— О’кей, — повторяю я.
В этот миг мне становится легче, и мы спешим вдоль путей во тьму, по следам зверя.
Пульга
Несколько часов спустя мы сидим в поле, там, где рельсы делают резкий поворот. Мы ждем тут вместе со стариком, его сыном и еще кучкой людей. Все они такие же усталые, как и мы, усталые настолько, что не смогут причинить нам вреда, даже если у них появится такое желание.
Мы наблюдаем, как поднимается' солнце. Потом целый день сидим и ждем. Я уже не знаю, зачем это делаю, и, кажется, меня несильно тревожит, появится ли когда-нибудь Ля Бестия или нет.
— Слушай, — говорит мне Крошка, когда солнце начинает садиться. Она не отрываясь смотрит за горизонт, будто что-то там видит. — Думаешь, это глупо — представлять себе будущее? — спрашивает она.
Я пожимаю плечами.
— О чем ты мечтаешь, Пульга?
Сердце будто пронзает игла. Мне хочется сказать, что мои мечты умерли, от них осталась лишь тупая фантомная боль. Я собираюсь сообщить, что больше не мечтаю, потому что мозг забит сплошными кошмарами. Но только мотаю головой.
Мы снова наблюдаем, как встает солнце.
— А о чем мечтаешь ты? — шепчу я Крошке после многих часов, которые мы провели в молчании и ожидании.
Она поднимает голову к небу и пожимает плечами:
— Дао разном, наверное. Может, я пошла бы учиться. А потом стала бы помогать людям. Женщинам. Стала бы консультантом в социальном центре, или психологом, или еще кем-то таким.
Я пытаюсь представить Крошку в этой роли. Пытаюсь представить и свое будущее, но у меня ничего не получается. Может быть, именно поэтому, когда поезд наконец появляется и катит к нам по рельсам с тем ужасным скрежетом, который уже сидит у меня в печенках, выматывает душу и вызывает желание сдаться, я этого не делаю.
Я бегу.
Бегу ради Чико и ради Крошки, ведь, пока солнце дважды вставало и дважды садилось, в ее голове родились мечты. Бегу, потому что в поле темно, и эта темнота, похоже, вот-вот меня поглотит. Мы бежим, хватаемся за скобы и взбираемся на зверя, слегка сбавившего скорость благодаря повороту железнодорожных путей.
Крошка улыбается мне, наверное, думает, что мы забрались на вагон так легко и быстро не просто так, что это какой-то знак. Но я знаю: как бы нам ни везло, в какой-то момент все равно придется за это поплатиться.
Мы едем долгими-долгими часами. Едем, пока наши тела не коченеют от того, что приходится неподвижно сидеть или лежать, вцепившись в крышу. Я пытаюсь вспомнить, какой это по счету поезд с тех пор, как мы оставили последний шелтер. Сколько дней прошло с тех пор, как парень с девушкой не позволили нам ехать с ними. Сколько дней назад погиб Чико. Как давно мы уехали из Барриоса, сколько я уже не видел маму.
Наверное, недели три? А может, уже больше.
Я точно не знаю. Для меня все слилось в один бесконечный день.
Он длится до сих пор. И все же мы здесь, проезжаем множество мест, которые кажутся странным сном, где мы плывем над деревьями и горами, над деревьями, проросшими сквозь горы. Я успел забыть, что такой цвет вообще существует, пока не увидел всю эту зелень. А потом мы долго едем по тоннелям, так долго, что мир делается черным, и я удивляюсь, когда мы снова вырываемся под небо, туда, где так много зеленого.
Крошка в восторге от открывшегося вида, она просит меня посмотреть. И я смотрю, но не вижу ничего такого и