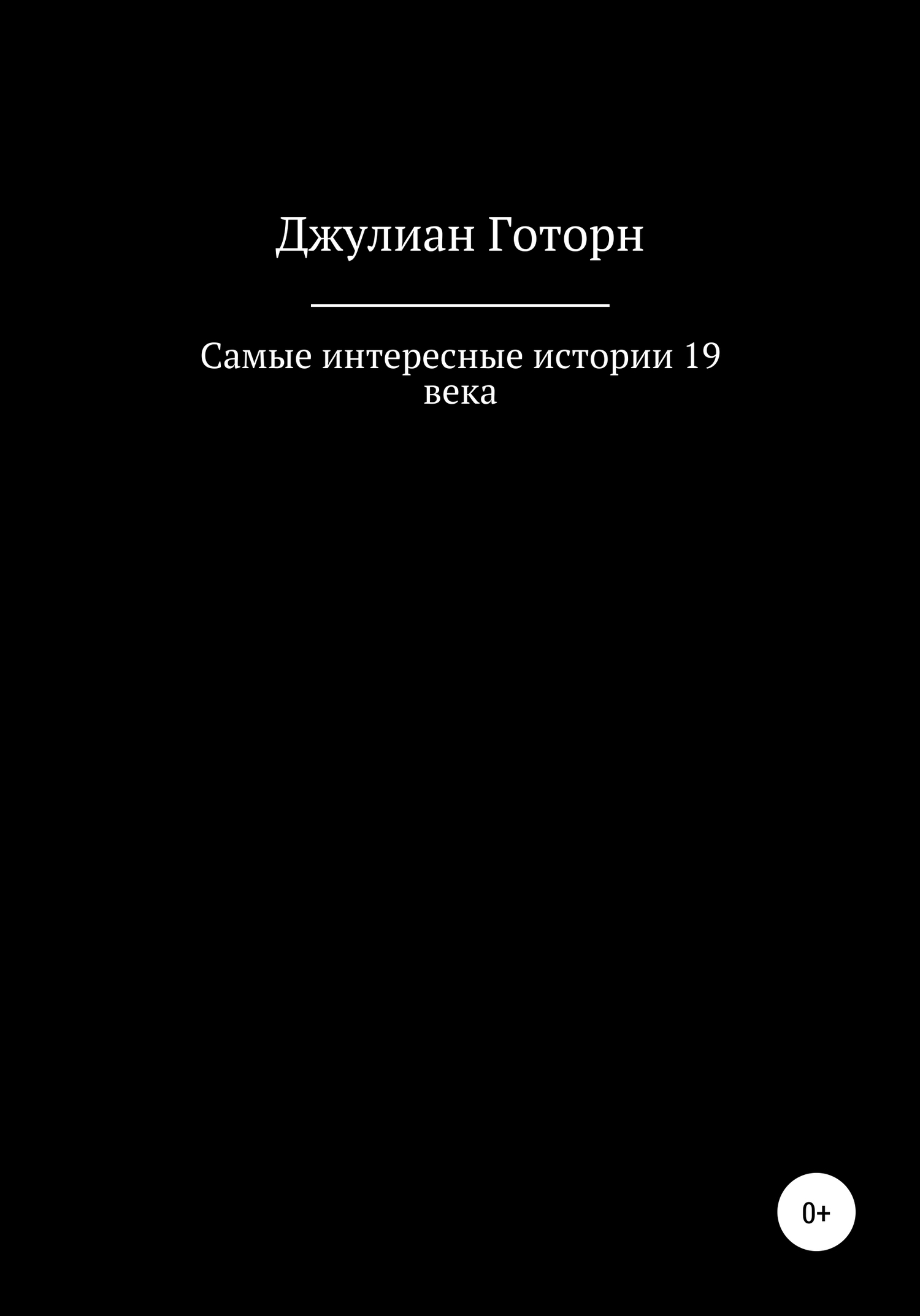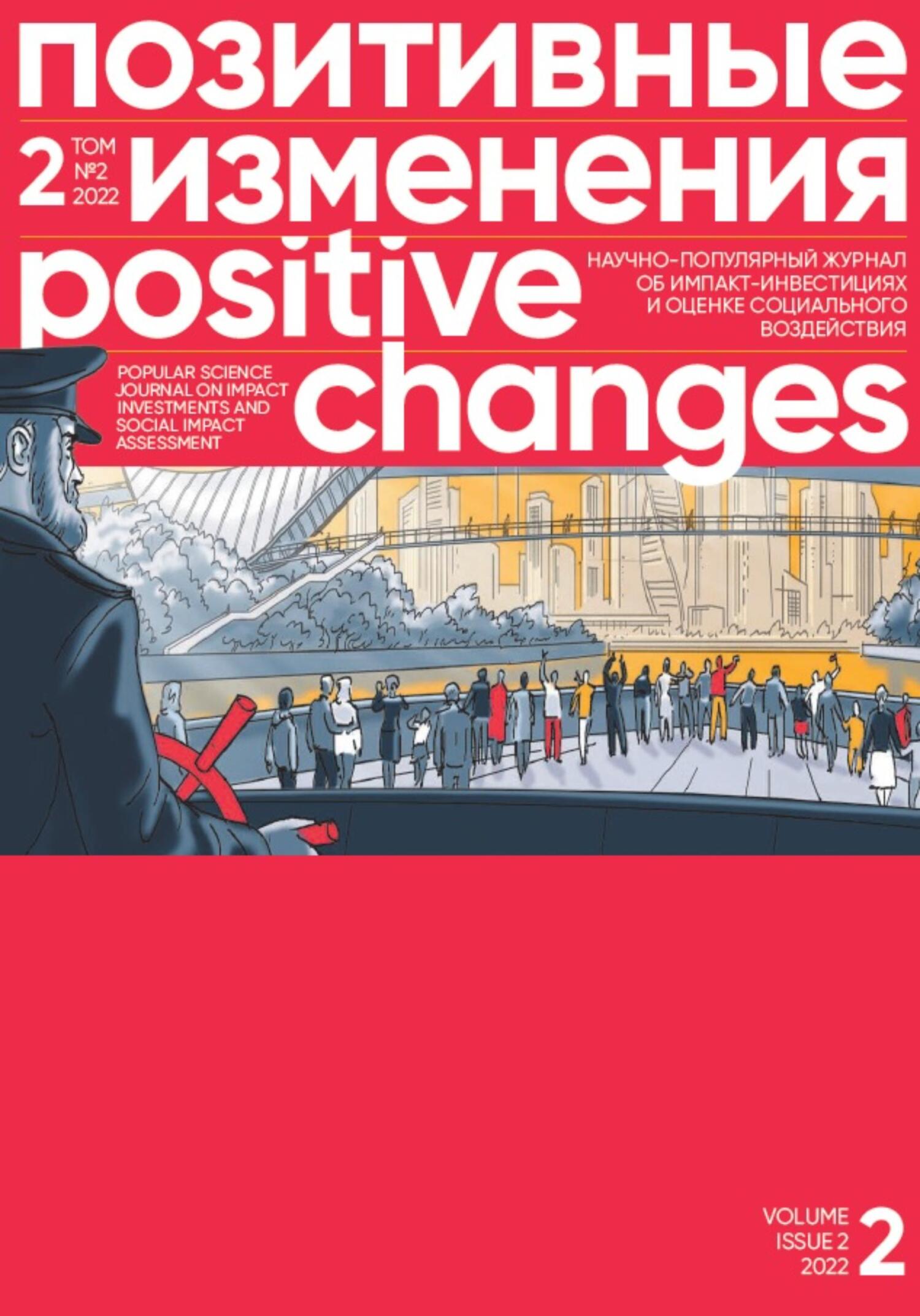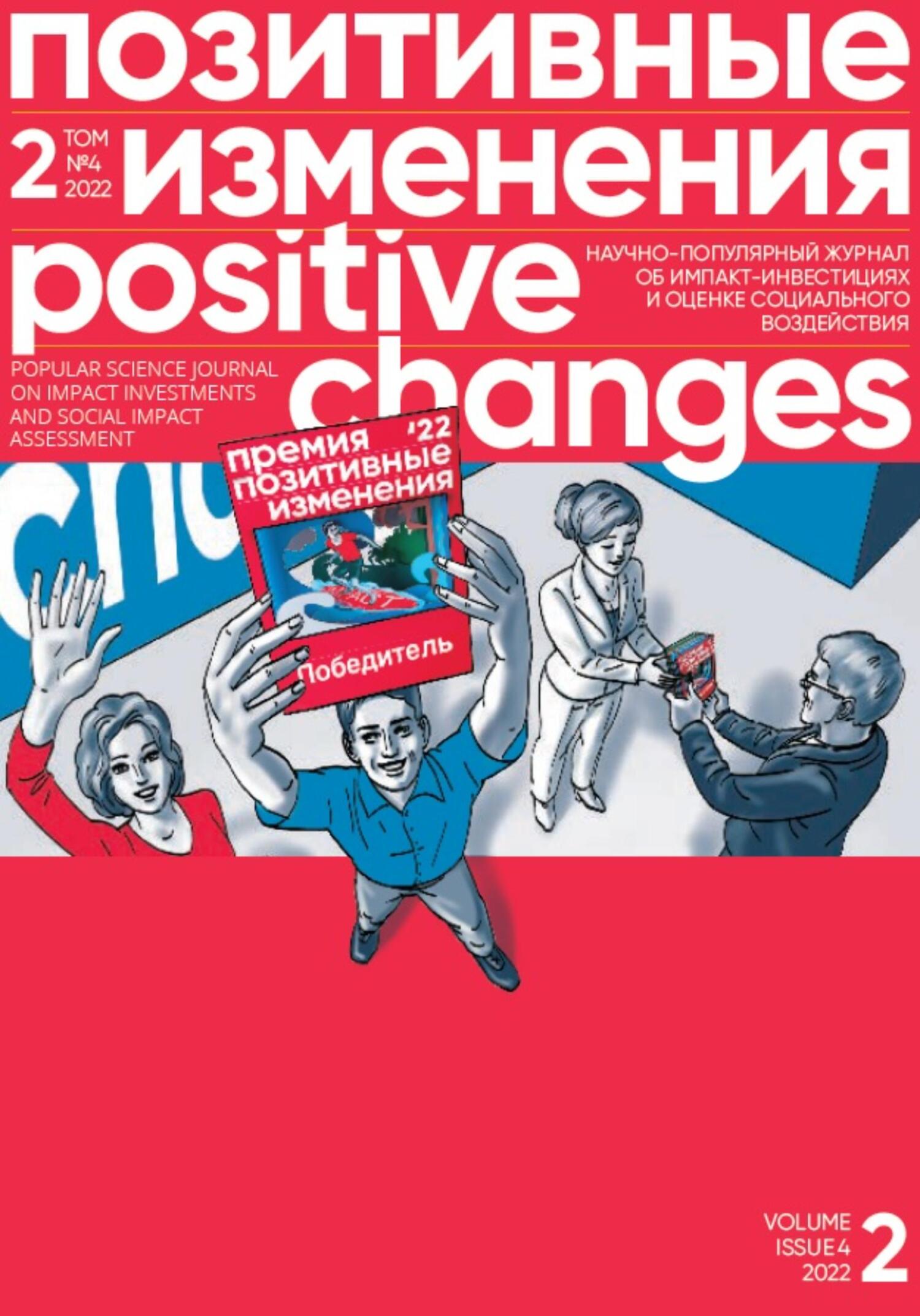Люди с его твердостью намерений и смышленостью в обыкновенных делах, если случается им забрать в голову ложное мнение о каком-нибудь предмете практической жизни, загоняют это мнение как клин между предметами, хорошо им известными, так что вырвать его из их ума едва ли легче, чем дуб из земли, в которую он впился корнями. Поэтому так как судья требовал от Клиффорда невозможного, Клиффорд, не будучи в состоянии удовлетворить его, должен был неизбежно погибнуть. В самом деле, что сделается с мягкою, поэтической натурой Клиффорда, которая не должна знать более упорного дела, как перекладывать прекрасные наслаждения жизни на текучие волны музыкальных размеров, что сделается с нею в руках такого человека? Она будет сокрушена, раздавлена и скоро совершенно уничтожена!
В уме Гефсибы явилась на минуту мысль, не знает ли в самом деле чего-нибудь Клиффорд об исчезнувшем богатстве покойного его дяди, как полагал судья. Она припомнила некоторые неопределенные намеки со стороны своего брата, которые, если только это предположение не совсем нелепо, могли быть истолкованы таким образом. У него появлялись иногда планы путешествий в чужих краях, он грезил о блистательной жизни на родине и строил великолепные воздушные замки, которые для своего осуществления требовали несметных сокровищ. Если б эти сокровища были в ее руках, с какой бы радостью предоставила их Гефсиба своему бездушному родственнику, чтоб купить Клиффорду свободу и жизнь в этом старом печальном доме! Но она была уверена, что планы ее брата так же мало основывались на действительности, как намерения ребенка о его будущей жизни, которые он высказывает, сидя в маленьком кресле подле своей матери. Клиффорд имел в своем распоряжении только фантастическое богатство, а оно было ни на что не нужно судье Пинчону!
Неужели же не было для них никакой помощи в их крайности? Странно, как быть столь беспомощными посреди города? Гефсиба могла бы тотчас отворить окно и позвать на помощь. Каждый поспешил бы принять участие, хорошо поняв, что этот страшный крик есть крик души человеческой, находящейся в каком-то ужасном отчаянии. «Но как это дико, как это почти смешно… и как, однако, такие случаи постоянно являются в смутном бреду людей света, – думала Гефсиба, – что, кто бы и с какими бы видами ни явился на помощь, можно сказать наверное, что помощь будет оказана сильнейшей стороне!» Судья Пинчон, человек почтенный в глазах света, обладающий огромным состоянием, причастный ко всему, что дает человеку хорошую репутацию, явится в этом случае таким импонирующим лицом и в таком свете, что сама Гефсиба почти готова будет отказаться от своих заключений относительно его показной честности. Судья на одной стороне, кто же на другой? Преступный Клиффорд, совершитель неясно припоминаемого злодейства!
Несмотря, однако, на убеждение, что судья Пинчон задействует все земные средства в свою помощь, Гефсиба до такой степени была неспособна действовать сама по себе, что самый ничтожный совет мог заставить ее уклониться от действия. Маленькая Фиби озарила бы тотчас перед нею всю сцену если не каким-нибудь полезным внушением, то просто теплой живостью своего характера. В ее отсутствие в уме Гефсибы мелькнула мысль о дагеротиписте. Несмотря на его молодость и неизвестность, несмотря на то что он был простой искатель приключений, она чувствовала, что он одарен силой для борьбы в решительную минуту. С этой мыслью она отворила дверь, увешенную паутиной и давно уже не отворявшуюся, но которая в старые времена служила путем сообщения между ее комнатами и нынешнею квартирой жильца. Его не было на ту пору дома. Опрокинутая корешком кверху книга на столе, рукописный сверток бумаги, полуисписанный лист, газета, некоторые инструменты нынешнего его ремесла и несколько неудавшихся дагеротипных портретов произвели на посетительницу такое впечатление, как будто он был здесь же рядом. Но в эту пору дня, как Гефсиба могла догадываться, дагеротипист должен был находиться в своей мастерской. По внушению праздного любопытства, которое как-то странно примешалось к ее тяжелым мыслям, она посмотрела на один из дагеротипов и увидела судью Пинчона, хмуро смотрящего на нее. Судьба заглянула ей в лицо. Она вернулась из своих бесполезных поисков с отчаянным чувством неудачи. В продолжение всего долгого ее затворничества она никогда еще не чувствовала так, как теперь, что значит быть одинокою. Ей казалось, как будто дом ее стоял среди пустыни или каким-то колдовством был невидим тем, кто жил кругом или проходил мимо, так что в нем может произойти какое угодно несчастье, горестное приключение или преступление, и никто не будет иметь возможности помочь. В своем горе и раненой гордости Гефсиба провела всю жизнь, чуждаясь друзей; она добровольно отвергла помощь, которую Господь заповедал, чтобы его создания оказывали одно другому, и в наказание за то теперь Клиффорд и она сделались легкими жертвами своего родственного врага.
Вернувшись к полуциркульному окну, бедняжка близорукая Гефсиба подняла глаза к небу, хмурясь и на него, как на все в мире, хотя она желала своим отчаянным взором послать молитву к небесам сквозь густой покров облаков. Эти облака скопились на небе, как бы символизируя огромную массу человеческих треволнений, замешательств и холодного равнодушия, лежащую между землей и лучшими мирами. Отчаяние ее было так сильно, что она не могла вознести к небесам своей молитвы; молитва падала назад на ее сердце свинцовым бременем и приводила ее в ужас. Провидение разливает свое правосудие и благость, как солнечный свет, по всему миру. Но Гефсиба не знала, что как теплые солнечные лучи светят в окно каждой хижины, так и лучи попечения и милосердия Божия проливаются для каждой отдельной нужды.
Наконец, не находя более никакого предлога откладывать мучение, на которое она должна была предать Клиффорда, и чувствуя непреодолимое отвращение услышать из нижнего этажа голос судьи, понуждающий ее поторопиться, она поплелась, как бледное, убитое горем привидение, как жалкая тень женщины, почти с окостенелыми суставами, к двери комнаты брата и постучалась.
Ответа не было.
И каким бы образом был он? Рука ее, дрожащая от ужасного намерения, которое управляло ею, толкала так слабо дверь, что даже снаружи едва был слышен ее стук. Она постучала опять. Опять никакого ответа! Но и это не было удивительно. Она стучала со всею силой биения ее сердца, сообщив собственный ужас своему зову. Клиффорд должен был уткнуться лицом в подушку и закутать голову в одеяло, как испуганный ребенок в полночь. Она постучала в третий раз тремя правильными ударами, тихо, но совершенно ясно. Клиффорд не дал никакого ответа.
– Клиффорд! милый брат! – сказала Гефсиба. – Могу ли я войти?
Молчание.
Три, четыре