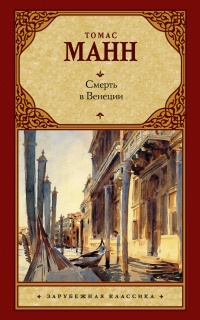Момент настал, когда ребенок пошел в школу, занятия в которой по здешним правилам продолжались почти целый день. Но тех восьми часов оказалось мало: выяснилось, что для работы, если хотеть, чтобы она выглядела по-настоящему убедительной, обладая силой показательного примера, и складывалась в правильной последовательности, такой короткой местной командировки недостаточно, – процесс не должен прерываться ни днем, ни ночью (во всяком случае в голове), ребенок же, ничем особо не мешая, прерывал течение созидательных грез, более того, он изначально препятствовал им. Отдельные мелкие достижения, конечно, случалось, выстраивались в единый гармоничный ряд, но слишком редко удавалось то счастливое преображение собранных знаний в открытие, которое только и сообщает сделанному подлинное величие, принося ему славу и доставляя потом радость другим. Но форма упорно не желала являться, и причиной тому, считал он, был ребенок, который одним своим присутствием сковывал фантазию взрослого, лишая его тем самым возможности выполнить свое предназначение.
Между ними не было яростного неприятия, в их отношениях господствовала теперь скорее недружелюбность, принимавшая иногда у мужчины вид враждебности, противоречившей его собственным убеждениям. Он ничему не мог отдаться целиком – ни работе, ни ребенку, и тот, почувствовав перемену, сам отдалился от него, без обычной обиженной надутости, гордо и независимо. Отныне он мог при случае позволить себе в разговоре с каким-нибудь третьим лицом сказать об отце: «Не желаю его больше видеть. Пусть уходит». Лаконичная фраза ребенка содержит в себе угрозу полного разрыва, отчего взрослый внутренне пугается и одумывается. Он откладывает свое большое путешествие до лучших времен и с этого момента начинает сомневаться во всех тех, кто, будучи так же, как он, связанным по рукам и ногам, во имя мечты своей жизни отрекался от обыденной повседневности. Их деяния утратили для него былой блеск, он больше не верил им. (Хотя в голове, конечно, все равно продолжали вертеться разные тайные замыслы.)
Так он снова начал работать урывками, ограничиваясь незаконченными фрагментами, и в сущности был даже доволен. Теперь он позволял себе часто вообще ничего не делать: бродил по городу без всякой цели, отпуская себя на все четыре стороны, и радовался освободительной праздности. Фазы осмысленной деятельности приходились исключительно на время отсутствия ребенка (когда он отправлялся в составе так называемого «зеленого отряда» куда-нибудь в поход или же проводил лето у матери); однако фанатизм, с которым мужчина день за днем внутренне оставался погруженным в свое дело, заключал в себе, в отличие от прежнего энтузиазма, нечто тягостное и недужное: словно та мечта, воодушевлявшая некогда подростка, превратилась для взрослого чуть ли не в тяжкую ношу. Даже в моменты, когда возгорался Магический Свет, пустота дома, в котором не к кому было больше обратиться, довлела надо всем и действовала на него как ядовитый газ, от которого он сам впадал в оцепенение и чувствовал внутри одну сплошную пустоту. Теперь он знал: только ребенок освящает собою течение дней. Без него он покинут и брошен; вся его деятельность кажется ему никчемной и ничтожной (хотя порою ему представлялось, как хорошо было бы без ребенка пуститься во все тяжкие с самой красивой женщиной мира). – Однажды ночью, вернувшись домой, он стоит в оглушительно тихой квартире, прислонившись к стене, и начинает понимать тех людей, которые падают замертво от одного только одиночества.
Именно в этот период мужчине все чаще доводилось слышать от разных людей, и от своих гостей, что он, ведя такой образ жизни и занимаясь тем, чем он занимается, исключает себя из круга настоящего и перестает видеть реальность. Прежде он еще терпел подобного рода высказывания. Но теперь, после всех этих лет, проведенных с ребенком, никому не дано было объяснять ему, что такое реальность. Разве он, прочувствовавший всю неразрешимость конфликта между работой и ребенком, не исполнился уверенности в том, что они оба, избавившись наконец от лживой жизни «современной эпохи», продолжают вдвоем линию возвышающегося над всеми временами Средневековья, которого в действительности, наверное, в таком виде никогда и не существовало, но которое, пробиваясь сквозь текущую актуальность, являлось мужчине – будь то в минуту болезни, в минуту прощаний или же просто при звуке легкого прыжка – как единственное, настоящее и, с его точки зрения, реальное время?
При этом ярые приверженцы реальности не были просто тиранами современной эпохи: в своих замерах степени реальности они напоминали, скорее, участников древнейших морских сражений, которые после всякой битвы сосчитывали распухшие трупы и обломки и по этим результатам имели обыкновение определять, кто выиграл, кто проиграл, – ведь и они потом стали достоянием человеческой вечности, правда дурной. Всякий раз, когда этим прирожденным государственным обвинителям предоставлялась свобода, неизменно оказывалось, что они своим пересчетом миров – «третий мир» и «четвертый мир» были при этом самыми «значимыми единицами» – просто отвлекали внимание от сокрытого злодеяния, каковое часто было, по существу, ничем не искупаемой изменой: все они совершили немало зла. (С учетом этого странно выглядят слезы на масках!) Подобного рода «реальничающие реалисты» или «путаники» – от которых испокон века рябит в глазах – представлялись мужчине бессмысленными существами: далекие от творения, давно уже умершие, они продолжали, в полном здравии и с полной злобой, свое дело, ничего не оставляя по себе, на что можно было бы опереться, ни на что не годясь – разве только на то, чтобы начать очередную войну. Спорить с ними не имело никакого смысла, ибо всякая новая катастрофа только добавляла им сил и словно бы подтверждала их правоту. Если у кого-то имелись иные представления, об этом лучше было молчать, чтобы они тебя не слышали и даже не видели: они были чужими, а с чужими я не разговариваю – пошли прочь. Я – голос, а не вы! – Так он решил навсегда закрыть двери своего дома для всех смутных гостей и впредь «не позволять их кораблям присваивать себе море». И только после этого он снова уловил легкий шелест действительности. Пошелести еще, не уходи, останься с нами!
Летом того же года ребенок вместе с родителями выехал из страны пребывания в страну происхождения, где ему предстояло провести у женщины летние каникулы. Осенью, когда он снова вернется к мужчине, он пойдет в новую школу, неподалеку от старой. Они ехали на машине по дороге, которая пересекала ступенчатый ландшафт, занявший весь широкий бассейн с тем большим городом в центре, находящимся на минимальной высоте над уровнем моря, откуда начинается равномерный, ритмичный подъем в направлении горной гряды, с гребня которой, по ту сторону пограничной реки, уже видна соседняя большая страна; за эти вершины в одну из мировых войн велись ожесточенные бои, – их абсолютно голые склоны (ставшие таковыми по совершенно другой причине) врезаются в память естественным мемориалом тех битв и сохраняются в ней гораздо дольше, чем все многочисленные реальные монументы.
В день той поездки они сидят втроем на одной из тех безлесых вершин, обратившись к западу, туда, где ступенчатый ландшафт нисходит к самому дну бассейна, являя там, на расстоянии дня пути, лишь свою ясную структуру. Здесь между мужчиной и женщиной происходит ссора, в чем-то похожая на прежние и, вероятно, – так почему-то невольно снова думается мужчине – выдержанная в точно таких же выражениях, какими обмениваются в тот самый момент все несогласные пары на земле. (Он до сих пор не хотел окончательного разрыва только потому, что высокопоставленное третье лицо, каким бы опытным и сведущим оно ни было, не могло ничего знать о ребенке, о женщине и о нем, и всякое решение суда будет воспринято им как дерзкое, бесцеремонное вмешательство в их жизнь.) Вместе с тем, однако, все зашло слишком далеко, и он, вопреки собственному убеждению, вопреки закону, предписывающему соблюдать мир на просторах природы, вступает поневоле в перебранку и погружается в поток упреков, все больше увязая в бесцветной, беззвучной тоске.