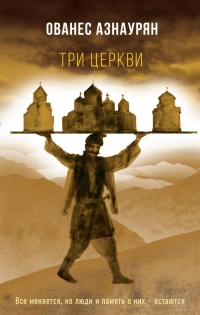Ночью я иногда удалялся от бивака или от дома, где находил приют, брал с собой одеяла и устраивал ночлег прямо в пшеничном поле, и там, растянувшись среди мокрых от дождя колосьев, ждал рассвета, вслушиваясь в шум грохочущих грузовиков, топот румынской кавалерии, рокот танковых колонн и гортанный звук хриплой, лающей немецкой речи, резкие крики румын: «Inainte, baièzi, inainte!»[203]Стаи голодных бродячих собак обнюхивали меня, виляя хвостом, маленькие беспородные собаки Украины, криволапые собаки желтоватой масти с красными глазами. Часто одна из собак устраивалась рядом, лизала мне лицо, и всякий раз, когда на ближней тропе звучали шаги или колосья шумели громче от сильного порыва ветра, собака глухо рычала, а я говорил: «Тише, Дмитрий», и мне казалось, что я говорю с человеком, с русским человеком. Я говорил: «Тише, Иван», и мне казалось, я говорю с пленным, с одним из тех, кто старался хорошо читать, сдал экзамен и лежал теперь в грязи с изъеденным известью лицом там, под колхозным забором в деревне возле Немировского.
Однажды ночью я лег в поле подсолнухов. Это были настоящие заросли, подлинный лес; согнув головы на волосатых стеблях, прикрыв большой круглый и черный, затуманенный сном глаз с длинными желтыми ресницами, дремали подсолнечники. Была ясная ночь, усыпанное звездами небо сияло зелеными и голубыми отблесками, как впадина огромной морской раковины. Я крепко заснул, рассвет разбудил меня нежным приглушенным шорохом, похожим на звук босых ног по траве. Я прислушался и затаил дыхание. От ближнего бивака доносились чихающие выхлопы мотора, хриплые голоса перекликались в лесу возле ручья. Вдалеке лаяла собака. На краю горизонта солнце взламывало черную скорлупу ночи, оно поднималось, красное и горячее, над сверкающей росой равниной. Шорох был везде, он становился громче с каждой минутой, похожий на треск пламени или на приглушенный скрип сапог бесконечного полчища, осторожно шагающего через жнивье. Я затаил дыхание и залюбовался подсолнухами, медленно поднимающими желтые веки, тихо открывающими глаза.
Я смотрел, как подсолнухи поднимают головы, мягко поворачиваются на высоких стеблях со все более густым и насыщенным шорохом и обращают большой черный глаз к восходящему солнцу. Это было неторопливое, равномерное и нескончаемое движение. Все поле подсолнухов поворачивало головы к встающему в юной славе солнцу, я тоже повернул голову на восток, глядя на медленно поднимающееся среди красных испарений рассвета светило, пробивающее голубой дым далеких пожарищ. Скоро кончились дожди, и через несколько дней холодный безжалостный ветер принес неожиданные заморозки. За ночь грязь твердела, лужи покрывались сверкающим льдом, тонким, как человеческая кожа. Воздух стал прозрачным, серое небо казалось треснувшим, как разбитое зеркало. Движение немцев на восток ускорилось, артиллерийская пальба, ружейный и автоматный треск звучали сухо и отчетливо, уже не отдаваясь эхом. Тяжелые танки генерала Шоберта, неуклюже, как жабы, передвигавшиеся во время долгих дождей по липкой, вязкой грязи равнины между Бугом и Днепром, вновь загрохотали по замерзшим дорогам. Голубоватый дымок выхлопных труб рисовал над деревьями легкие облачка, мгновенно таявшие, однако оставлявшие в воздухе след своего присутствия. То был самый опасный момент великого кризиса русских осенью 1941-го. Армия маршала Буденного, советского Мюрата, медленно отходила к Дону, оставляя в тылу отряды казацкой кавалерии и группы маленьких танков, которые немцы называли Panzerpferde, бронированной кавалерией. Panzerpferde — маленькие маневренные машины, их водители – в большинстве молодые татарские рабочие, стахановцы и ударники советских металлургических заводов Дона и Волги. Они применяли тактику татарской кавалерии: появлялись неожиданно на флангах, наносили удар, исчезали в лесах и кустарниках, прятались в складках местности, налетали вдруг с тыла, рисуя большие спирали по жнивью и лугам. Это была тактика chevau-légers, легкой кавалерии, которой мог бы гордиться сам Мюрат. Они носились по равнине, как лошади на манеже.
Но и Panzerpferde появлялись с каждым днем все реже. Я спрашивал себя, куда подевался Буденный, куда запропастился усач Буденный с несметной армией казацкой и татарской кавалерии? В Ямполе, едва мы переправились через Днестр, крестьяне говорили: «Э, Буденный встретит вас за Бугом». Когда мы перешли Буг, крестьяне говорили нам: «Э, Буденный ждет вас за Днепром». Теперь они со всезнающим видом говорили: «Э, Буденный ждет вас за Доном». А немцы тем временем, как нож, вонзались все глубже в украинскую равнину, уже болела рана, она нагнивала и превращалась в язву. По вечерам в деревне, где колонна останавливалась на ночлег, я слушал хриплый голос граммофона (граммофоны и стопки пластинок были везде: в сельсоветах, в правлениях колхозов, в универмагах; обычный набор песен о заводах, колхозах, о рабочих клубах, и обязательно «Марш Буденного»); я слушал «Марш Буденного» и думал: «Да где же Буденный? Куда, к дьяволу, запропастился усач Буденный?»
В один из дней немцы открыли охоту на собак. Сначала я подумал, что генерал Шоберт приказал уничтожить собак из-за случаев заболевания бешенством. Потом понял, что это не так. Войдя в любую деревню, прежде чем начать отлов евреев, немцы начинали охоту на собак. Эсэсовцы и Panzerschützen, танкисты, бегали по улицам и палили по бедным беспородным кривоногим тварям с красными блестящими глазами, выгоняли их с огородов, из-под заборов, злобно преследовали в полях. Несчастные твари убегали в лес, таились в ямах, канавах, за изгородями или искали спасения в домах, забиваясь в углах и крестьянских постелях, за печкой, под скамьей. Немцы влетали в дома, выгоняли собак из укрытий, убивали прикладами.
Самыми злобными были Panzerschützen. Казалось, у них были свои счеты с бедными тварями. Я спрашивал их, в чем дело, panzerschützen темнели лицом: «Спросите у собак», – отвечали они сухо и отворачивались. А сидящие на пороге старые казаки смеялись в усы и похлопывали ладонями по коленям. «Бедные собачки, ах, бедные собачки!» – хитро посмеивались они, будто жалели не бедных тварей, а бедняг немцев.
Старухи, выглядывавшие из-за заборов, спускавшиеся к реке с коромыслом на плече девушки, дети, заботливо хоронившие в поле бедных замученных собак, – все улыбались печально и вместе с тем злорадно. Ночь разносила по селам и весям отчаянный лай, жалобное завывание, последний взвизг, собаки скулили в поисках пищи по огородам и хатам, немецкие часовые странными голосами кричали «Пошел вон!». Чувствовалось, они боятся чего-то странно необычного в собаках.
Однажды утром я пришел на артиллерийский наблюдательный пункт посмотреть вблизи атаку немецкой Panzerdivision, танковой дивизии. Танковые дивизионы ждали сигнала к атаке в лесном укрытии. Было прозрачное, свежее утро, я смотрел на сверкающие инеем поля, желто-черные заросли подсолнечника под восходящим солнцем (будто солнце Ксенофонта из третьей книги «Анабасиса», оно поднималось из розовой дымки прямо перед нами на горизонте, как молодое античное божество, нагое и розовое в бесконечности голубого с прозеленью неба, поднималось, освещая дорическую колоннаду Пятилетки, колонны Парфенона из бетона, стекла и стали тяжелой промышленности СССР), как вдруг из леса показалась колонна танков, рассыпавшаяся веером по полю. За несколько секунд до атаки на наблюдательный пункт прибыл генерал Шоберт, он разглядывал поле боя и улыбался. Танки и бежавшие в колее гусениц штурмовики казались выгравированными по меди огромной бескрайней равнины, лежащей на юго-востоке от Киева. Что-то дюреровское было в этой широкой, зарисованной с сухой точностью панораме: в замотанных в маскировочную сетку солдатах – античных ретиариях на медной гравюре; в разнообразном расположении деревьев, повозок, орудий, машин, людей и лошадей на склоне холма, который начинался от наблюдательного пункта и спускался к Днепру; в дали, куда, раскрываясь и расширяясь, уходила перспектива; в согнувшихся фигурках людей, бегущих с автоматами наизготовку вслед за танками, и в самих танках, разбросанных в высокой траве и подсолнечнике. Что-то дюреровское было в тщательной, совершенно готической проработке деталей, сразу схваченных глазом; казалось, будто при изображении оскала мертвой лошади или ползущего через кусты раненого, или опершегося о ствол дерева и прикрывающего глаза рукой солдата резец художника остановился на мгновение отдохнуть и потяжелевшая рука провела по меди след поглубже. Лающие голоса, ржание лошадей, сухие редкие выстрелы и скрежет гусениц казались вырезанными резцом Дюрера по прозрачному свежему воздуху того осеннего утра.