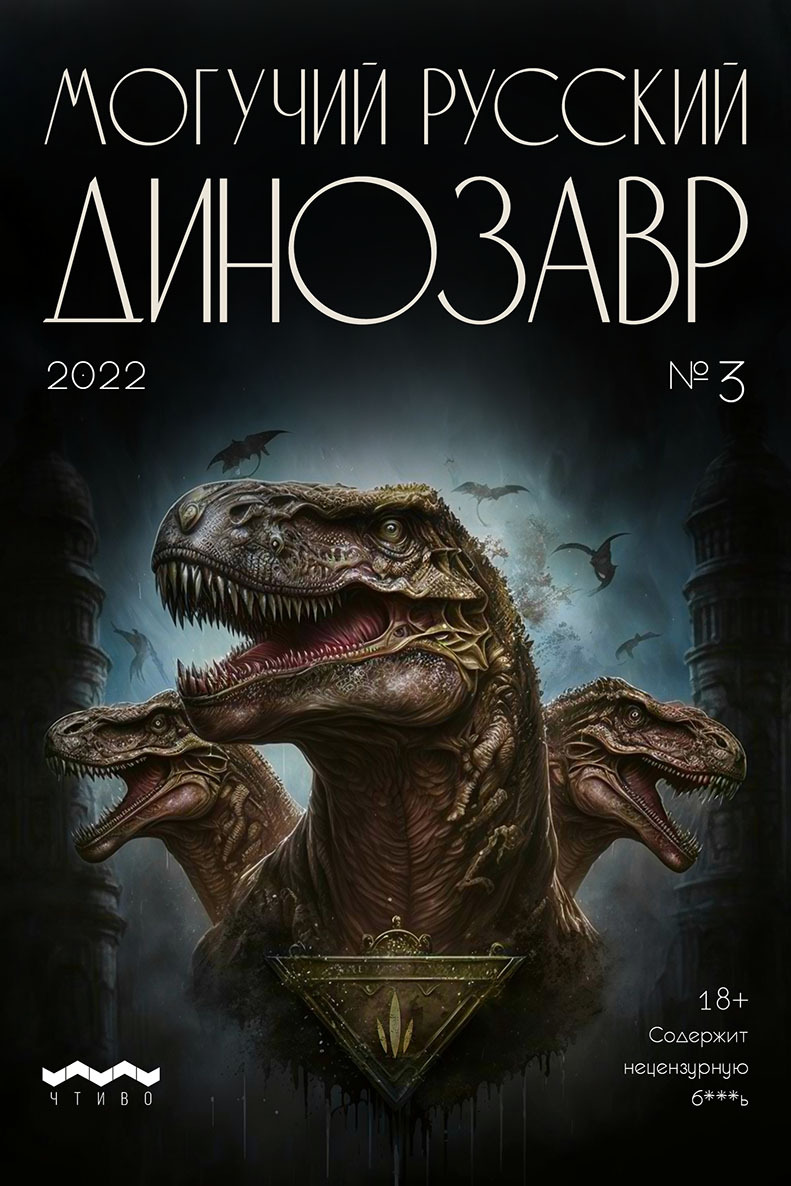тяжело дыша и вся в поту. Я пыталась не думать о Кристобале с тех пор, как начала проводить время в компании Мартина. Я все время чувствовала за собою этот грех. Быть может, Кристобаль таким образом осуждал меня, коря в предательстве? Обвинял в выпавшем ему несчастье?
Я должна была загладить перед ним вину. Должна была найти его убийцу.
Однако все оказалось настолько перепутано! Я вновь подумала о Каталине. Она так терзалась тем, что произошло с Франко. Она винила себя и в его ужасных ожогах, и в его страданиях, и в том, что отвергла его любовь. Она сказала, что после пожара он уже больше не был прежним Франко, но так и не пожелала со мной поделиться, как именно он изменился. И я не усматривала никакой связи между ней и трагическим инцидентом на корабле. А уж тем более узнав, что после пожара отношения между Франко и Каталиной сильно остыли.
Я нередко спрашивала себя, как я поступлю, когда все же вычислю того, кто попытался меня убить. Вряд ли я смогла бы отплатить ему той же монетой. Я абсолютно не представляла себя в роли убийцы одной из своих сестер или брата. Это было совершенно не в моей натуре. Скорее всего, я просто соберу все улики и отнесу местным защитникам правопорядка. И пусть они сами с этим разбираются. Я уже не раз подумывала о том, чтобы в любом случае нанести визит в полицию – не с теми намерениями, которых ожидала от меня Соледад, а для того, чтобы сообщить им о случившемся на борту «Анд». Останавливала меня лишь высокая вероятность того, что они перенимут расследование из моих рук и просто порушат все мои старания. Сперва меня наверняка попытаются успокоить, как это делал капитан Блэйк, а потом сообщат, что расследование происшествия должно проводиться под британской юрисдикцией. Однако если я представлю в полицию доказательства – а лучше даже признание преступника, – то все будет обстоять иначе. Тогда они уже никак не смогут меня игнорировать.
После завтрака я поехала в Винсес с Лораном под тем предлогом, что мне якобы необходимо сходить в церковь на исповедь. Разумеется, исповедоваться я не собиралась – а уж тем более своему брату. На самом деле я рассчитывала принять исповедь от него самого.
Когда я вошла в церковь, Альберто приветливо мне улыбнулся с противоположной стороны нефа. Той бледности и растерянного выражения лица теперь как не бывало.
– Как же я рад вас видеть здесь, дон Кристобаль! Хотя на мессу вы, увы, немножко опоздали.
– Ничего страшного. Я на самом деле хотел перемолвиться словечком с вами, если вы не возражаете. Это займет не более пары минут.
– Желаете исповеди?
– Можно и так сказать.
Кивнув, он повел меня в ризницу, напитанную благовониями. Позади письменного стола, уставленного потирами, свечами и прочими предметами культа, на стене высился массивный крест. Еще в комнате стоял узкий диванчик с вишневого цвета обивкой, куда мы с Альберто и сели, и приоткрытый шкаф, где я заметила несколько сутан, а также белые, пурпурные и зеленые мантии.
– Итак, чем могу помочь вам? – Альберт сразу принял такой торжественный тон, какой бывает у священников во время проповеди. Когда он неделю назад сидел напротив меня в кабаке, то вовсе не казался столь степенным.
Я растерялась, не зная, с чего начать.
– Скажи, Альберто, ты всегда желал стать святым отцом?
Мой вопрос застал его врасплох – возможно, от самой фамильярности обращения, – однако брат быстро с собой совладал.
– Нет, – спокойно ответил он, – я хотел стать архитектором.
Я молчала, ожидая продолжения.
– В юности у меня был такой период, когда я сомневался в самом существовании Всевышнего. – Он едва ли не с сожалением оглядел на себе сутану. – Как ни странно, но именно моя страсть к архитектуре и привела меня к Нему. Видишь ли, у моего отца была книга о церквях Европы. Это было великолепное издание с множеством графических иллюстраций – с собором Парижской Богоматери, с собором Санта-Мария-дель-Фьоре, с базиликой Святого Петра, с собором Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела. В детстве мне эту книгу запрещали брать, поскольку это была одна из немногих отцовских ценностей, привезенных им из Франции, и он говорил, что я попорчу ее своими перепачканными руками. Но всякий раз, как я видел, что отец садится на коня и уезжает, я пробирался к нему в кабинет и часами разглядывал эти чудесные картинки. Когда я стал старше и уже научился читать, то узнал, что сквозь многие века именно на богословии всегда зиждилась структура и эстетика всех этих христианских храмов.
Он с почтением поглядел на большой крест на стене.
– Когда мама ездила в Гуаякиль или Кито навестить своих родственников, то обычно брала меня с собой, и мы с ней обязательно посещали тамошние костелы, которые всякий раз поражали мое юное воображение. Я несчитаные часы там проводил на мессах, а сами соборы своей величественностью приводили меня в немое восхищение. И все ж таки чрезмерная религиозность моей матери вызывала во мне не меньшее отторжение, нежели стойкий скептицизм отца, наполнявший мою душу сомнениями.
Слова Альберто вызвали во мне живой отклик. Моя матушка тоже каждое утро к шести часам таскала меня в церковь к мессе. Так что вместе с «шоколадницей» у меня появился замечательный предлог, чтобы туда больше не ходить. Любопытно, что обе эти женщины в жизни моего отца обладали столь одинаковой набожностью.
– И вот я вознамерился опровергнуть существование Бога. – Тут Альберто невесело улыбнулся, стиснув губы. – Я на многое пошел ради этой цели. Поступил в духовную семинарию, дабы изучить все, что только можно, по части философии и теологии, чтобы потом вернуться домой исполненным рациональных аргументов в поддержку своей антибожественной позиции. Естественно, от всех, кто меня в ту пору окружал, я скрывал свой извращенный замысел, однако чем больше я узнавал, тем чаще пытался поделиться своими открытиями с матерью. И тем не менее это никак не смогло поколебать ее веру. – Он глубоко вздохнул. – Ее смерть явилась для меня невыразимым потрясением и болью. И вот однажды, полный неистового гнева против этого так называемого Господа, который отнял у меня человека, которого я любил больше всех на свете, я обратился за утешением к самому источнику своих духовных терзаний.
Тут у него словно надломился голос, и на несколько мгновений Альберто молча уставился на свои ладони.
– Помнится, я попытался молиться с четками, как нередко делала мать, в надежде, что это сможет меня успокоить – или притупить боль, если