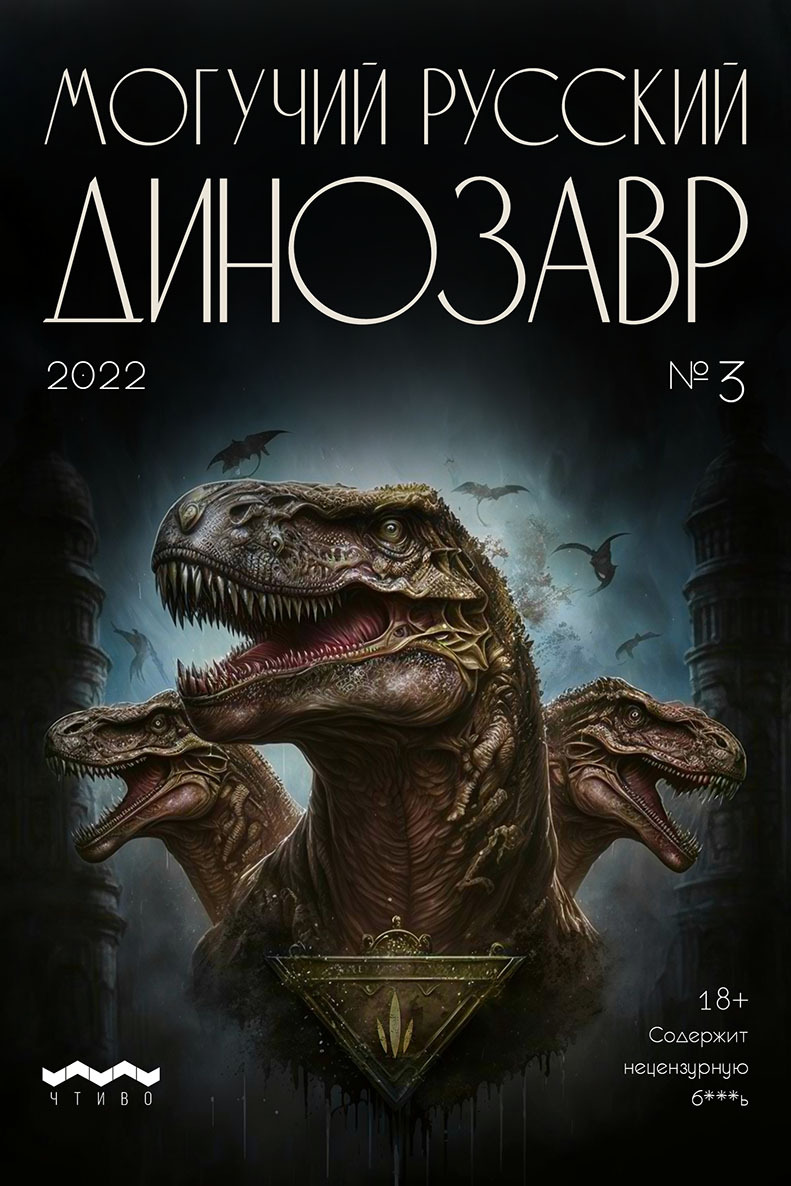в меня эту истину.
И на сей раз я к ней прислушаюсь.
Двадцать восемь
Фэрхейвен спит. Свет на крыльце не горит, шторы на втором этаже задернуты.
Стараясь не шуметь, я поднимаюсь на крыльцо и проскальзываю в открытую дверь. Наверху играет по радио какая-то старая песня. Обычный тихий вечер в американской глубинке.
На кухне горит свет. Видимо, бабушка там. Ужинает. Что еще полагается делать после того, как расправилась с внучкой и соседями?
Я не останавливаюсь. Наверх, за зажигалкой. Фотография мамы и Кэтрин все еще лежит в кармане, и, поднимаясь по лестнице, я касаюсь ее пальцами. Она здесь, со мной. Они обе.
В комнате я на секунду замираю на пороге. Бросаю взгляд на Библию, которую считала тетиной. Эта книга способна рассказать о маме больше. Я в этом уверена. Но это не то, чем она хотела со мной поделиться. Я оставляю Библию на месте, отодвигаю тумбочку от стены, чтобы открыть ящик, и достаю зажигалку.
Что дальше? Мама подожгла рощу, но она наверняка понимала, что этим все не закончится. Она знала, что кто-то другой должен об этом позаботиться, отыскать корни и выкорчевать их.
Теперь это моя задача, и, чтобы выполнить ее, мне нужна бабушка. Я была бы счастлива никогда больше ее не видеть, но у нее есть информация, которая мне нужна. К тому же что она может мне сделать? Она стреляла в спину, замахивалась лопатой, пока я не видела. Что ж. Посмотрим, далеко ли ты сумеешь зайти, глядя мне в глаза.
Я спускаюсь на первый этаж. Я больше не таюсь. Вперед через холл, через порог кухни. Над плитой горит свет, в духовке греется запеканка. На столе недопитый стакан апельсинового сока. И ссутулившаяся фигура на стуле. Бабушка.
Я знала, что она здесь. И все-таки замираю как вкопанная.
Она выпрямляется, и желтый свет скользит по ее лицу.
– Марго, – говорит она низким, скрипучим голосом. – Вот уж не думала, что увижу тебя снова.
Я готова рассмеяться. Вместо этого я медленно прислоняюсь к дверному косяку. От запаха запеканки урчит в животе.
– Жизнь полна сюрпризов.
Секунду мы молча смотрим друг на друга – единственные Нильсены, выдержавшие эту бурю. Единственные, кому хватило сил.
– Голова болит? – вдруг спрашивает она, кивая на мой висок.
– Конечно, болит. – Я слишком устала, чтобы что-то предпринимать, и просто стою в дверях, чувствуя, как волосы пропитываются свежей кровью. – Ты ударила меня лопатой.
Бабушка фыркает.
– Видно, слабовато.
Она хотела меня убить. Так же, как убила Миллеров. Мне не верится, что эта женщина могла такое устроить. Как и я, она все еще в вечернем платье, заляпанном кровью. Сидит на кухне. Пьет апельсиновый сок.
Она набирает в грудь воздух, как будто собирается что-то сказать, но, передумав, только пожимает плечами.
– Нет, скажи, – говорю я. – Что?
– Ничего.
– Скажи.
– Я просто удивлена, что ты пришла, – говорит она. – На твоем месте, если бы я выжила, я бы постаралась сбежать.
У меня было много странных разговоров, но этот бьет все рекорды.
– У меня оставались дела. – Мне надоело довольствоваться жалкими крупицами информации. Я хочу знать все.
Я достаю из кармана фотографию, которую оставила мама, и подхожу к кухонному столу. Разворачиваю снимок, кладу между нами. Кэтрин в шортах и футболке, мама в платье, с выскобленным лицом. Взгляд бабушки смягчается, и она с нежностью проводит по фотографии пальцем, задержавшись на Кэтрин.
– Такие юные, – говорит она рассеянно, словно забыла о моем присутствии.
– Что с ними стало? – спрашиваю я. Хватит с меня деликатности. Хватит попыток сделать все правильно. – Что ты наделала?
Не сводя глаз со снимка, бабушка начинает говорить.
– Я унаследовала Фэрхейвен в двадцать один год.
Это не ответ на мой вопрос. Я едва сдерживаюсь, чтобы не перебить ее.
– В то время дела на ферме шли хорошо. Вся земля к востоку от Фалена была засеяна. Ни одно здание в городе не пустовало. – Она откидывается на спинку стула и подталкивает фотографию ко мне, отводя взгляд, как будто больше не в силах на нее смотреть. – Но я была молода, без родителей. Я совершала ошибки, как и любой бы на моем месте.
Любой. Почему-то я сомневаюсь, что любой оказался бы в такой ситуации.
– И что? – поторапливаю я, когда пауза затягивается.
Она моргает, встряхивает головой и поднимает глаза на меня.
– И то. Точную дату я не помню, уж прости, если что напутаю, но, кажется, это был восемьдесят первый год.
– И что случилось в восемьдесят первом?
– За несколько лет до того случился неурожайный год. Часть посевов загубила засуха, а то, что выросло, пожрали насекомые. – Она трет ладонями лицо, и я замечаю, как у нее дрожат плечи. – Я давно не вспоминала о тех временах. Прости.
Мне не нужны ее извинения.
– Это не объясняет…
– Знаю, – огрызается она, прежде чем снова сникнуть. – Мы тогда многое потеряли. Пришлось уволить часть работников. Но это был всего один неурожайный год. У нас были запасы.
Я бросаю взгляд на заднюю дверь, на крыльцо и поля.
– Но ситуация повторилась?
Бабушка смеется, тихо и горько.
– Год за годом. И с каждым разом все хуже. Я продала половину фермы родителям Ричарда, надеялась, что у них дело пойдет лучше. Чтобы, если я разорюсь, в городе осталась хоть какая-то работа.
Ричард. Мистер Миллер. Как легко она произносит его имя, словно не вымывала совсем недавно его кровь из-под ногтей.
Она вдруг встает, относит стакан с соком к мойке, допивает одним глотком, споласкивает. Я смотрю на ее сгорбленные плечи, на побелевшие костяшки пальцев.
– К восемьдесят первому я лишилась половины того, что осталось. К востоку от фермы ничего не росло. И тогда…
– Тогда что?
Она убирает стакан и поворачивается ко мне. Ее лица мне не видно – только силуэт с ореолом света вокруг волос.
– Тогда я узнала про ридицин. Ты спрашивала, что это. Это химикат. Предназначенный для гибридных сортов. Иногда, когда объединяешь два разных сорта, всходы получаются стерильными. Такие всходы обрабатывают чем-нибудь вроде ридицина.
– Он был запрещен, – говорю я и вижу, как она поднимает голову, смотрит прямо на меня. – Но ты все равно его использовала.
Она набирает воздух в легкие, и я почти жду, что она будет это отрицать. Но она лишь медленно выдыхает и говорит:
– Да.
– Зачем? – Коннорс говорил, что от него гибли люди. Что такого он мог дать бабушке, чтобы так рисковать?
– Он предназначался для лабораторных условий, – говорит бабушка. – Гибрид обрабатывается на клеточном уровне. В минимальной концентрации.
Здесь все было иначе.
– Но мне нужно было обрабатывать землю, –