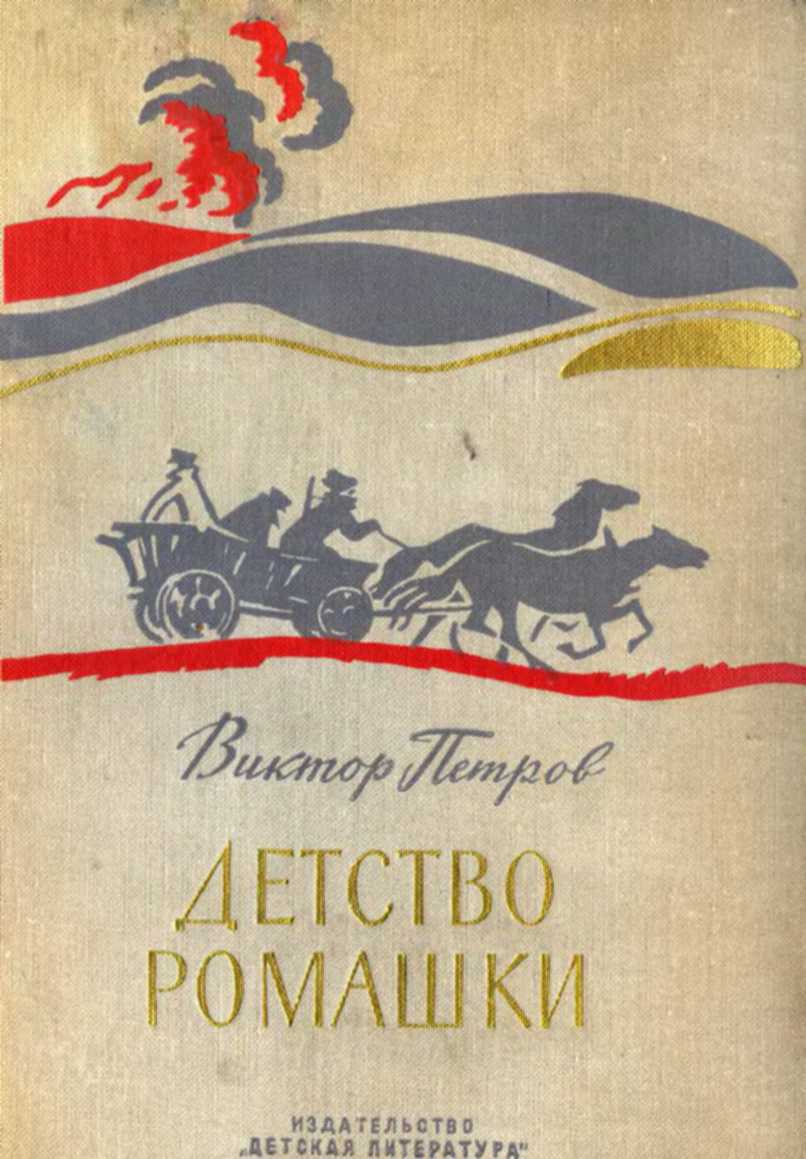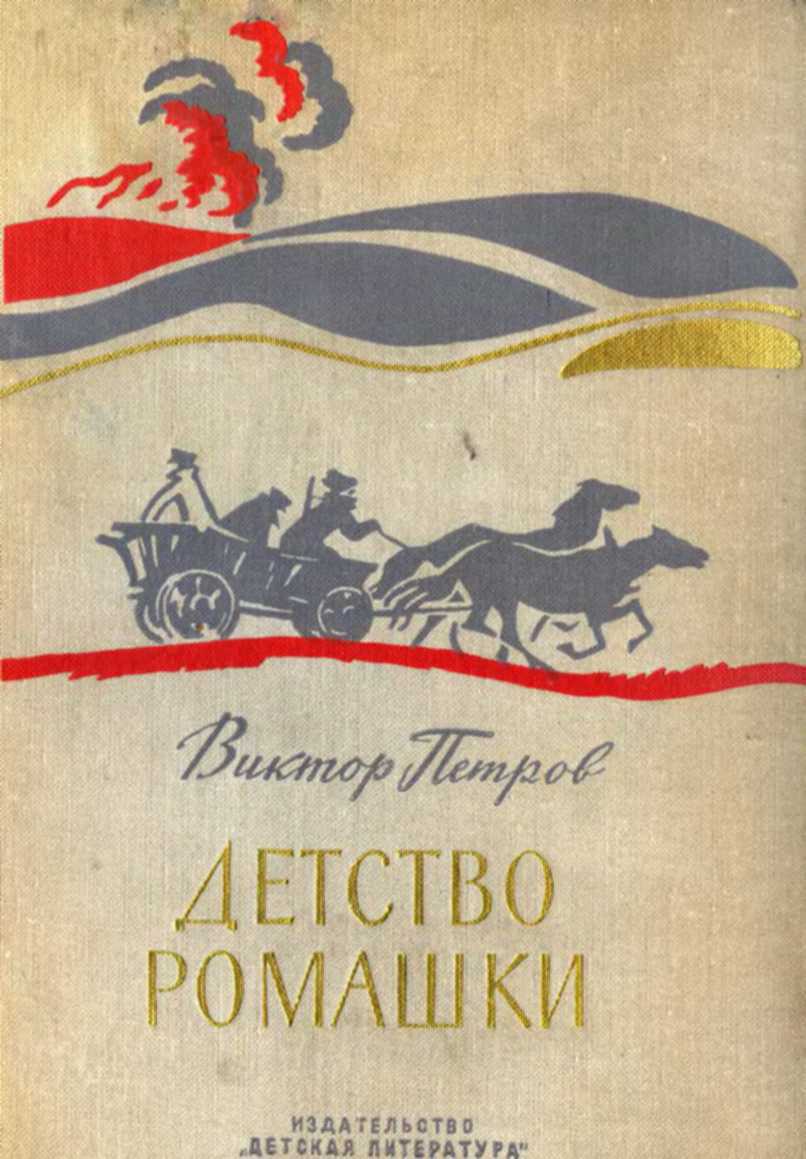class="p1">– Ой, избушки наши супостаты подожгли. Животинушку порубили… Негде голову приклонить… В Гуселетово, может, добрые люди пустят под крышу. Спалили село!… а порубленных там… пострелянных!
На вопросы погорельцы отвечали несвязно, с причитаниями и слезами.
– В Колбино малость банешек не сгорело, так в них народу-у. Офицерье пьянешенько. Стоит, стоит иной, да ка-ак шашку выхватит: хрясь. А сейчас бандиты, сказывают, на Черемушки откочевали, там до Богомдарованного да до Рогачева – рукой подать.
Отряд распрощался с погорельцами и спешно двинулся к Самарекам – небольшому поселку-заимке у Самарецких щек.
3
Самарецкие щеки – глубокая, узкая щель. Серые скалы с заплатами мхов. Прорезистые, крутые ложки, и по ним сбегают в долину березы.
На дне щели бьется в камнях Самаречка. Ревом ревет. Бросается грудью на скалы, будто пытается их свалить. Вскипает на гребнях валов белая пена и висят в воздухе холодные брызги.
Самаречка везде Самаречка, а в Самарецких щеках ее зовут «Семь смертных грехов».
– Так ее за норов прозвали, – уверяет один.
– Норов норовом, – скажет другой, – однако имя «Семь смертных грехов» она не за то заслужила. Давно это было. Рогач только-только поставил на Выдрихе первую избу. Притаежное звалось запросто Матвейкиной пасекой, и была там в ту пору одна пасечонка колодок на десять, а на месте, где Гуселетово, трущоба была: озеро с гусями да волчьи логова. Как завоют бывало зимнею ночью – кровь стынет в жилах.
Зато по таежным крепям было не как теперь, а людней. Пасек много. Заимок. Один бежал сюда, храня старую веру, другой не поладил с законом, третий волю искал. Все находили приют. Но селились поодаль, опасаясь друг друга.
В ту пору невесть откуда объявился в этих местах Улант. Плечи широкие, глаза черные, хмельные. Работать Улант не любил. А без работы, известное дело, никому еще не удавалось честно прожить. Перво-наперво вырезал Матвейку с семьей. Богатство искал в сундуках. Нашел там пятак и алтын. Запалил пасеку и ушел – только черный дым столбом эа спиной.
На второй заимке еше семью порешил. Одной сарыни семь человек. У сарыни души безгрешные и руку поднять на сарынь – смертный грех.
Семь смертных грехов зараз принял Улант.
Обозлился народ: кто за ружье, кто за нож. А Улант смеется. Распахнул на груди рубаху: нате, мол, бейте, не то я вас всех порешу.
Народ затаился. Одно дело в запале решить человека, другое, когда он грудь сам открыл да ходит по кругу, каблуками пристукивает.
«Бейте, сермяжье семя. Не то я вас всех изувечу. Эй, трусы! Да Вас теперь бабы погонят. А которая примет, так родит косоглазого, длинноухого, волосатого, одноногого».
Насмехается так, да как дернет за бороду старика. Тот аж на землю упал. Стариков сын не выдержал, выхватил нож из-за пояса да с размаху Уланта в грудь.
Зазвенел нож и надвое поломался, а Улант еще шире распахнул рубаху. Смотрите, мол, нет кальчуги на мне, а от булата даже царапины не осталось.
Тут второй стариков сын выхватил у соседа ружье, подсыпал на полку пороху да к Уланту. Прицелился.
«Лучше целься, – смеется Улант,- не в грудь, дурак, грудь у меня заговорена, только что видел, в лоб целься аль в глаз. Да ближе ко мне подойди, не бойся, не трону».
Выстрелил сын старика. Без мала в упор. Рассеялся дым, и видит народ, Улант как стоял, так и стоит. А сын старика – тот, что стрелял, лежит на земле. Пуля не в Уланта попала, а стрелку в самый глаз.
Чуть в стороне на костре котел висел. Не то в нем уха варилась, не то другое какое варево, только кипело оно, пар валил. Улант подошел к костру, сунул руку в котел, присел на чурбачок, отбросил чуб свободной рукой и кричит:
«Эй, заячье племя, дровишек в костер, а то он потухнуть может. Ничего меня не берет, – кичится Улант. – Ни кипящая вода, ни огонь, ни булат, ни пуля…»
Пал народ на колени.
«Что хочешь, Улант, бери – только жисть оставь».
А старик, тот, которого Улант за бороду дернул, поднял кверху иссохший кулак и ну стыдить: «Эх вы, волю искали, бежали от царевой кабалы за тысячу верст и Улантов хомут на себя надеваете. У меня в красном углу икона висит, складень не из меди – серебряный».
Все на коленях. Один старик, имя его не знал никто, стоял во весь рост, белый, сухой, голова тряслась, а глаза, как угли, горели.
«Смотрите, смотрите, побледнел Улант, – говорил старик, – дрожь его проняла, потому нет. заговору от серебра. Огонь не возьмет, кипяток не возьмет, – заговор крепче их, а серебро крепче любого заговора».
Закричал Улант страшно, кинулся к старику, ударил его в грудь ножом, да уж поздно.
«Не отдавайте свободу… – последнее, что сказал старик, – Сражайтесь за волю…»
Народ к старику на заимку – пули лить из икон, ножа ковать, а Улант хоронится. Тут, в Гуселетовой глухомани, вместе с волками, в крепи забился.
Народ за Улантом. Гонит его гривами да логами и у каждого в руке или ружье с серебряной пулей, или нож с серебряным лезвием, или копье с серебряным наконечником.
«Улю-лю, ат-ту его», – раздается над всхолмленной степью.
Бежит Улант, запыхался, ажно язык отвис. Впереди Самарецкие щеки. Тут, у щек, его окружили со всех сторон.
«Суд творить, суд…» – кричит народ.
Огляделся Улант вокруг, увидел глаза мужиков, старух, парней и прочел себе приговор. Когда в избы шел, жен воровал, сарынь убивал – любо было, кровь ключом клокотала, а как почуял близкий конец, так ноженьки сами собой подкосились. Бухнул Улант на колени, в пыли ужом извивается, ноги целует у мужиков.
Ахнул народ. Не стало лихого Уланта.
«Пощадите, помилуйте, бес путал, по недоумству творил. Что хотите вершите, только жизнь сохраните».
«Неслыханно и невиданно, чтоб мужик этак подличал. – Отступает народ, убирает сапоги от Улантовых губ. – Да встань ты…»
«Не встану, покуда не смилуетесь. Девицы-молодушки, хоть вы за меня словечко замолвите…»
Но и девицы отвернулись. Как взглянут на ползающего по земле Уланта, так их лихотить начинает.
«А ну его к бесу, – сказал тогда старый Рогач. – На такое дерьмо и пулю жалко тратить. Пусть убирается подобру- поздорову», – и показал на Самарецкие щеки.
Вскочил Улант, от радости ошалел и сразу бежать. Народ расходиться стал. Те, что ниже щек жили, подъехали к Самаречке, где она уже тихая, мирная,