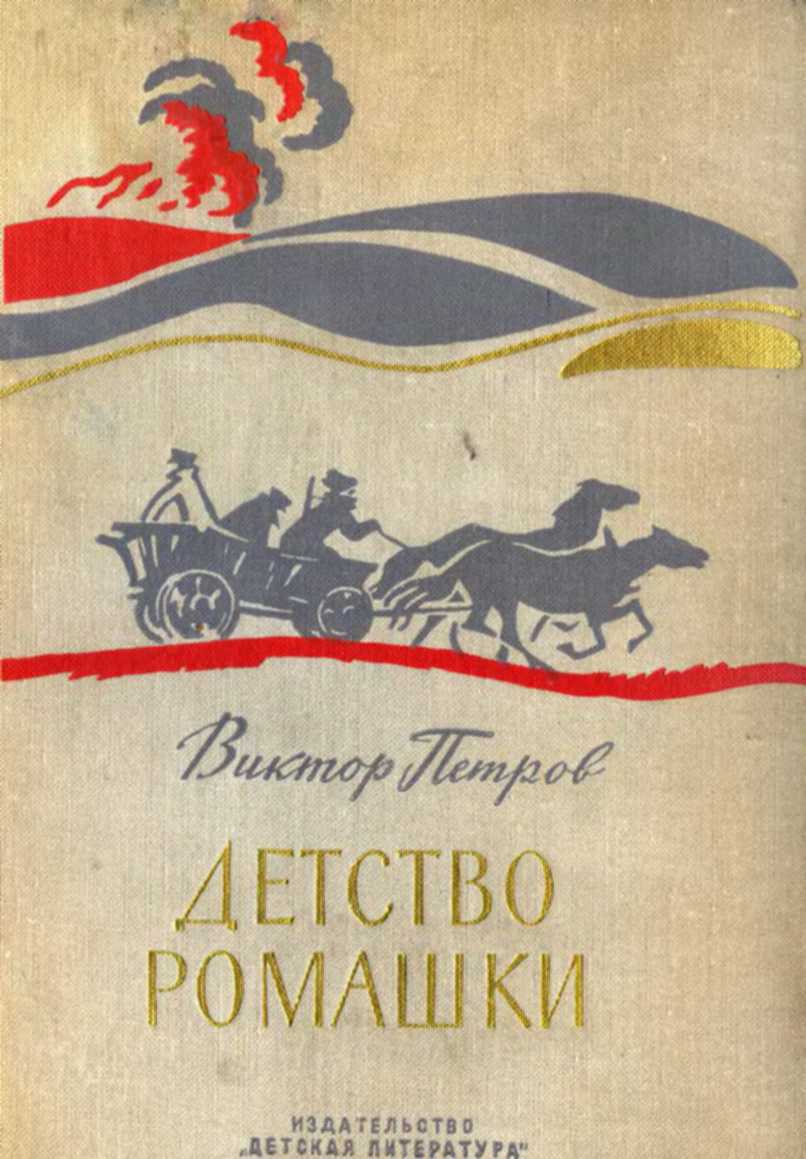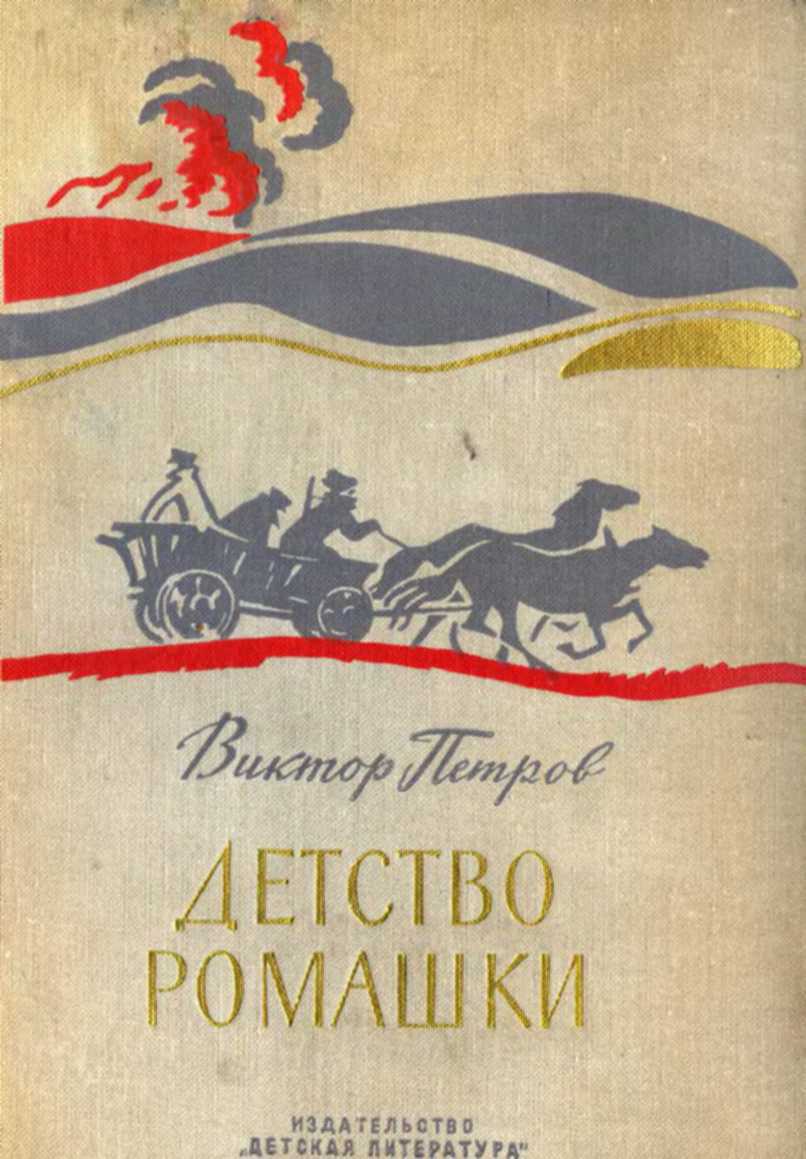кости стало ломить…
Увидел свою шапку на берегу.
– Ха! – вскрикнул радостно. Шапка сухая. В ней кремень, кресало, трут.
Везло Степке в ту зиму,
Есть кресало, кремень – значит, есть и огонь, а дров сухих в тайге, сколько хочешь. Ох, и костер развел в тот вечер Степка! Такой жар от него – дрова издали приходилось подбрасывать.
Сушиться в тайге на морозе Степке не диво. Наломал пихтовых лапок, смастерил из них стенку-навес, чтоб хиус с гор не хватал костра, а между костром и стенкой было тепло, как в юрте. Набросал веток на снег, разделся. Лопатину сушить повесил. А зло на «дурака» все больше: сидит скукорился, до сих пор не может в себя прийти.
– Дурак ты, дурак, – ругается Степка, – пошто в воду лез?
– Не видел я полынью.
– Ха! Ходишь тайгой, глаза надо брать. Раздевайся, скидай штаны и суши. Костер погаснет, мокрый штаны к ноге примерзнут. Кто ты такой?
– Ваницкий.
– Какой Ванисски? Баянкуль твоя будет?
Мой Баянкуль.
– Врешь, однако. Ванисски – тот шибко умный да шустрый. Соболя скрадет, оленя догонит, а ты какой Ванисски? Ты дурак!
Понимал Степка, неправду сейчас говорит, но уж больно приятно называть Ваницкого дураком. Расскажи вот родне: сидел, мол, в тайге у костра – я тут, а Ванисски тут, рядом. Я его дураком, а он глазами хлопает и молчит. Врешь, скажут. И пусть говорят. Марья поверит. Марья знает – жги Степку огнем, все равно врать не станет. К лошадиному хвосту привяжи за ноги – не заставишь соврать. Марье скажу.
Праздник был на душе у Степки в ту ночь у костра. Уже не жалел, что в воду полез. Можно лезть, раз везет. А Ванисски? Вот он лежит у костра, спит, укрывшись Степкиной рваной ватнушкой. Только Марья в такое поверит.
Утром снова беда. Ни есть, ни пить Ваницкий не стал. Жаром горит. Куда такого пошлешь по тайге. И лыж у Ваницкого нет. Утопил в полынье.
– Кого делать стану, – загоревал Степка. – На прииске хлеб ждут. Тебя привезу, кто платить станет? Где, скажут, хлеб? '
– Вези на Баянкуль. Там я тебе заплачу.
– Эге! Баянкуль. Два дня совсем в сторону. На прииске хлеб ждут. Ай, ай, скажут, плохой человек стал Степка, хлеб обещал привезти, сам Ванисски Баянкуль повез.
– Вези в Баянкуль, я тебе сто рублей заплачу.
– Ге, – Степка присел на корточки, набил трубку подсохшей за ночь махоркой, прикурил и, окутавшись дымом, укоризненно покачал головой. – Сто рублей сулишь? Три рубля – поверю. Сто – врешь. Эх-х, лежи тут.
Однако не бросил. На прииске хлеб ждут, а он вместо хлеба в сюрьку Ваницкого, и потащил его через горы. Два дня тащил, каждое утро спрашивал:
– Не врешь? Три рубля заплатишь? Нет, так брошу и подыхай мало-мало.
– Сто заплачу,
– Врешь. Брошу тебя.
Но тащил.
А Ваницкий то запоет, то зарычит медведем. Мечется в бреду.
Подходя к Баянкульской конторе, Степан затосковал.
«Возьмут Ванисски – ладно. А то не возьмут? Не знаем такого Ванисски. Вон наш Ванисски в конторе сидит. Тащи своего Ванисски в лес, откуда привез. Куда я его? К Марье? Степка таскай чужой хлеб по приискам, Марья корми чужого мужика, Тьфу».
Но в конторе спорить не стали. Сразу же взяли Ваницкого. Унесли куда-то. Долго ждал Степка три рубля. Но не дождался.
«Надо было рупь торговать. Запросил три. За два дня работы да три рубля. Дурак ты, Степка. Ванисски умный. Обманул дурака».
Так, без особой обиды, ушел Степка в тайгу. Только есть хотелось, толкан-то кончился. Шел и напевал про себя. Когда доешь, в животе урчит меньше.
Весной нагрянул Ваницкий в Степкину юрту. Спирт привез. Разных гостинцев. И сто рублей.
Зажмурился Степка, вспоминая тот давний пир. Три дня гуляли… Ай-ай-ай, надо барашка скорей резать. Нельзя Аркашку с пустым котлом встречать. Вот они, овцы, на склоне. Вон и Степкин баранчик черный с белой задней ногой. Но не успел добежать до них Степка, как три кошевы подкатили к юрте. Хрипели кони. В пене все.
– Стой, Степан! Куда ты? Иди сюда, – крикнул Ваницкий.
– Барашка буду ловить.
– Не надо барашка.
– Как не надо. Нельзя без барашка. Скажут, плохо Степка встречал Ванисски.
– Не скажут, – и сразу с вопросом: – Ты мне друг?
Степка качнул головой: друг, мол.
– Ты меня один раз спас. Никогда, Степан, не забуду. Еще раз выручи, Понимаешь ли ты, кони устали, смени, свежих дай.
– Вон табун, бери… – Помолчал. – Неезженны только.
– Знаю. Ты мне найди езженных.
– Шибко трудно, но найду.
– Молодец. И потом, Степан, мой управляющий с Баянкуля останется у тебя. Жену будет ждать. И Яков приболел – вон во второй кошеве лежит, А ты проводи меня до железной дороги. Там посадишь на поезд и вернешься обратно на тех же лошадях. Очень прошу.
– Не надо просить. Степка поедет. Есть кого будем? Я за барашком побегу.
– Не надо сегодня барашка, Степан. Найдем чего поесть. Давай-ка скорей лошадей, чтоб можно было дальше ехать.
…Скрипят по снегу кованые полозья. Ночь безлунная, звездная. «Это волчьи глаза на небе горят. Раньше волков на земле ой шибко много было. Разогнали волков. Много угнали их на небо, вот и горят их глаза», – так думает Степка. Едет он на козлах, а в кошеве, закутавшись в доху, Ваницкий.
– Ванисски хорошая кошева… Аркашка оставил лошадей у Степки, – поет вполголоса Степан по-своему, только степь понимает его. – Ванисски взял у Степки хозяйских лошадей… Степка сидит на золоте. Под Степкой – золота на сто лет… Эй-бе-гей… Эй-бе-гей!…
Ночь. Хрустит иод коваными полозьями снег. Много волчьих глаз-звезд смотрят с неба на землю, на лошадей, на поющего про себя Степку и на тяжелые мешочки с золотом под сеном…
2
Лыжники шли по обочинам. По дороге лошади тащила груженые сани, а между ними безлыжные бойцы.
Двигались торопливо. Вавила шел за санями. Еще в Гуселетово услышали тревожные вести: горят села по тракту. Зверствуют горевцы.
Раздался условный свист. Передовой дозор возвращался к колонне и с ним большая группа людей. Кто они? Осторожность заставила Вавилу остановить отряд и приготовиться к бою.
– Свои, свои! – закричали из дозора.
– И впрямь свои! – раздался удивленный голос из цепи лыжников, – Тетка Авдотья, да дядя Данила… а с ними сарынь. Это же колбинские!
Лыжники, пешие сбились в кучу.
– Куда на ночь глядя? В мороз? С ребятами?