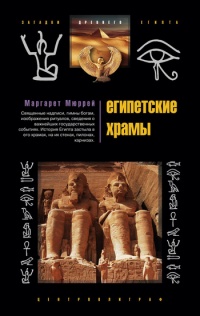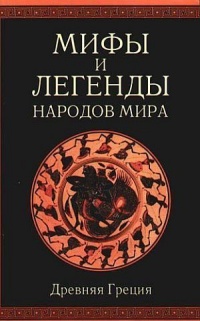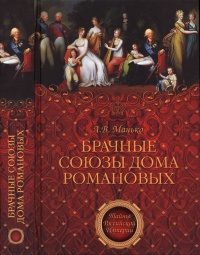можно было понять, он должен был сохранить воздвигнутое им здание Церкви, а для этого нужно было справиться со смертными грехами. Он справился со своими и взялся изжить их из каждого другого. Если не словом, то огнём. Власти города всё это понимали, но вот горожане не спешили это принять. На этой почве чуть ли не все жители разделились на два лагеря. Те, кто радушно приветствовали начинания своего пастыря, назвались гиллерминами, по имени старика Фареля, с которого в городе началось утверждение веры евангельской. Те же, кто не желал расставаться с отвоёванной когда-то свободой в угоду всяким приезжим французам с их ордонансами, назвались либертинами, а их сподвижники за пределами Швейцарского союза прозвались «детьми Женевы».
Сегодня, как и всегда, Кальвин шёл своей легкой быстрой походкой, не глядя по сторонам. Взгляд его, в котором можно было угадать, уверенность и сосредоточенность на каких-то своих мыслях, был остр и холоден. Следом за Кальвином семенили, стараясь выглядеть чинно, трое солдат городской стражи – персональный караул на случай всяких неприятностей. На такой случай, надо сказать, в толпе народа также было несколько пар глаз и ушей, ненавязчиво и зорко наблюдающих за обстановкой. Горожане, заметив Кальвина, кто сторонился, отводя в сторону глаза, кто-то наоборот своим радушием старался обратить на себя внимание. К тем и другим Кальвин оставался бесстрастен. Даже оскорбительное «Каин», открыто брошенное в его сторону, было оставлено им без ответа. Как говаривали в таких случаях заезжие купцы из жарких стран «Собака лает, караван идёт».
– Эй, Кальвин, хочешь косточку? Тогда станцуй нам! -не унимался Бертелье, подманивая какую-то бегающую меж ног собачонку. Животных, будь то собаки, лошади и все прочие можно было называть как угодно, никакие законы этому не претили. Так почему бы не использовать это, чтоб досадить своему неприятелю? Впрочем, ни это, ни все другие ухищрения недругов на Кальвина, человека веры и воли, не действовали никак совершенно.
Кальвин торопился в храм. Вообще-то службу должен был провести патер Авель Пупэн, настоятель храма. Человек правильный и проверенный он был предан кальвиновой доктрине до последней запятой. Однако, доверенные люди Консистории сообщили, что либертины задумали устроить какую-то выходку прямо во время проповеди. Авель по мягкости нрава своего мог стушеваться перед выпадами неприятелей. Поэтому Кальвин решил упредить недругов и своим вмешательством защитить и службу, и патера Авеля.
Подходя к храму, Кальвин ещё издали заприметил и Ами Перрена, и Филибера Бертелье, и прочих ярых своих оппонентов, противников церковной дисциплины. Они стояли своей компанией и негромко переговаривались, поглядывая в его сторону. Неужели действительно что-то затевают? Не глядя в их сторону, Кальвин твердым шагом прошел в южный придел храма. Проходя мимо, он шестым чувством ощутил всю источаемую ими ненависть и их желание вонзить ему в спину кинжал. Однако, смерть настолько часто витала над ним, что Кальвин давно уже её не боялся. Он боялся лишь, что не успеет воплотить в жизнь всё задуманное.
Настало время службы. Площадь, до того шумная и полная народом, замолкла и опустела, словно умерла. Все, кто мог, были уже в храме, лишь караул по обыкновению занял свой пост у соборного портала. Прихожане, расположившись на храмовых скамьях, застыли со сложенными на груди руками. Любое лишнее движение или звук были недопустимы. Патер Авель взошел на кафедру. С этого момента единственное, что разрешалось всем остальным в храме, это молчать, внимать и повиноваться. Под сводами храма зазвучали слова проповеди.
Кальвин в одиночестве расположился за отдельной скамьёй, предназначенной для священников и церковных лиц, присутствующих на службе. Со своего места он мог видеть не только проповедующего с кафедры Авеля, но и лица прихожан. Разглядывая их со своего места, Кальвин невольно уловил мелькнувшее в себе чувство какой-то новизны, как будто он в первый раз увидел всех этих людей. Конечно за долгие годы жизни в Женеве он не раз мог видеть и наставлять каждого из них. Однако сейчас Кальвин не мог вспомнить, когда же он оставался с кем-то из них лицом к лицу и разговаривал запросто, с глазу на глаз. Немудрено. Все последние недели и месяцы он почти не выходил из своего кабинета, сутки напролёт проводя за своим рабочим столом. Известия чуть ли не обо всех событиях, произошедших не только в Женеве, Лозанне или Невшателе, но и в Лионе, Страсбурге, Париже или Риме, попадали к нему на стол в виде бесчисленных писем, донесений и отчётов. Каждое событие имело свою причину и каждое привносило в мозаику мира свои оттенки. Чтобы добиться в этой мозаике господства красок своей доктрины, Кальвин считал своим долгом самому направлять ситуацию. Для этого в канцелярии под его началом бесконечно составлялись ответные письма, наставления, инструкции, ультиматумы и прочее, что потом рассылалось нужным персонам, где бы те не находились, на соседней улице или в другой стране. Положение дел никогда не было простым, а в последнее время в особенности. За годы неимоверных трудов и бед Кальвин добился того, что его Церковь стала в Женеве источником духовной власти. И как логическое продолжение его доктрины, она же должна была стать и основой власти светской. Кое-кому такое было не по нраву. Чтобы не проиграть им борьбу, приходилось всё время быть настороже. Днюя и ночуя в своём кабинете, словно вечный дозорный на башне, чьи ещё глаза он мог видеть? Кто мог его успокоить или ободрить? В любое время компанией ему были только его секретари. Люсьен с его умным и глубоким взглядом притаившегося хищника, да Анатоль со взглядом то весёлым и недалёким, то усталым. Да, ещё Иделетта. Его жена, чьи глаза вечно были полны тоски и страдания. Радость в них можно увидеть лишь изредка, почти никогда. Вот, пожалуй, и всё. Находясь в центре событий, каждую минуту он был одинок. Вступая в прения на заседаниях городского совета или проповедуя в свои часы в храме, Кальвин уже не видел в своих слушателях обычных людей, тех, с кем можно поделиться мыслями и переживаниями. Господа умные и практичные, те, что заседали в Совете, весьма оберегали своё достоинство. Всё, предлагаемое им, они взвешивали на весах, где на чашах лежали и собственное их благополучие, и спокойствие в городе и за его стенами. Облечённые ответственностью за судьбы одной лишь Женевы, они ради мира и богатства готовы были поступиться требованиями духовной доктрины и церковной дисциплины. За одно это Кальвин презирал их и не желал искать в них опоры. В храме же, проводя свои службы, Кальвин среди массы