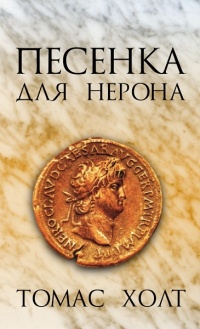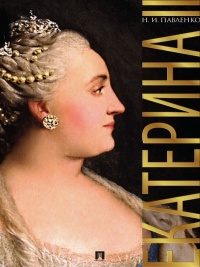Ознакомительная версия. Доступно 17 страниц из 85
У меня произошла аберрация памяти, мне кажется, что и наш любимый спектакль «Ее друзья» поставил Эфрос, но, заглянув в Интернет, я увидела, что первым спектаклем в ЦДТ у Эфроса был «В добрый час» тоже Розова и там тоже играл Ефремов. Так в моей памяти соединились эти два спектакля в один.
А когда в 56-м году Эфрос поставил «Никто» Э. де Филиппо с тем же Ефремовым и в этом спектакле начался «Современник», я поняла, что без театра мне не жить, и пошла в Студенческий театр Московского университета, где я тогда училась. И хоть у нас была своя интересная жизнь в Студенческом театре – Ролан Быков поставил нашумевшую тогда «Такую любовь», – для нас спектакли Эфроса оставались той высочайшей планкой, до которой надо тянуться.
С 63-го года мы бегали в давно забытый Театр Ленинского комсомола, потому что туда перешел Эфрос. Я не поклонница спектаклей по пьесам советских драматургов, но там была необычная манера игры, а когда в 66-м году появилась «Чайка» (впервые Эфрос стал ставить классику), где главным героем был Треплев, я была уже у Любимова на Таганке, но по-прежнему мы говорили только об Эфросе, о его легких, быстрых ритмах в спектаклях, когда многое пробрасывалось, о его условности.
Я любила все его спектакли по так называемым классическим пьесам, и даже «Дорогу» по «Мертвым душам» Гоголя я приняла безоговорочно и по просьбе Наташи Крымовой написала в какую-то газету восторженную статью. Критика этот спектакль Эфроса не приняла, и, по слухам, на Малой Бронной, где в это время работал Эфрос, начались недовольства актеров, которые всегда возникают в театральном коллективе, который долго работает вместе.
Дело других разбирать эти конфликты, я хочу рассказать об Эфросе и «Таганке».
Он к нам впервые пришел в 75-м году. Год для Эфроса был тяжелым. На Малой Бронной он закончил «Женитьбу»; вышла в свет его первая книжка; во МХАТе он поставил «Эшелон»; у нас реставрировал «Вишневый сад», и к концу года у него случился первый инфаркт. Но по порядку.
Из дневника
1975 год
24 февраля
В 10 часов утра в верхнем буфете – первая репетиция «Вишневого сада». Пришел Эфрос…
На первую репетицию собираются в театре не только назначенные исполнители, но и те, кто хотел бы играть, но не нашел себя в приказе о распределении ролей; собираются просто «болельщики» и околотеатральные люди. А тут – событие: в театре Анатолий Васильевич Эфрос, режиссер другого «лагеря», другого направления. Пришли почти все…
Любимов впервые уехал надолго из театра – ставить в Ла Скала оперу Луиджи Ноно и перед отъездом, чтобы театр не простаивал без работы, предложил Эфросу сделать какой-нибудь спектакль на Таганке. Эфрос согласился, хотя у него в это время было много работы. Он только что закончил на телевидении булгаковского «Мольера» с Любимовым в главной роли, у себя на Бронной – «Женитьбу», во МХАТе репетировал «Эшелон» Рощина.
У нас Эфрос решил ставить «Вишневый сад». Распределили роли. По обыкновению нашего театра, на каждую роль – по два-три исполнителя. На Раневскую – меня и Богину, на Лопахина – Высоцкого и Шаповалова, на Петю Трофимова – Золотухина и Филатова.
Высоцкий в конце января на три месяца уехал во Францию, но перед распределением Эфрос говорил с ним, со мной и с Золотухиным о «Вишневом саде», советовался насчет распределения других ролей – он мало знал наших актеров. Но в основном роли, конечно, распределял и утверждал Любимов. Знаю, что Эфрос, например, не настаивал на втором составе…
И вот наконец мы все в сборе, кроме Высоцкого. На первой репетиции обычно раздаются перепечатанные роли, а тут всем исполнителям были даны специально купленные сборники чеховских пьес. Кто-то сунулся с этими книжками к Эфросу, чтобы подписал, но он, посмеиваясь, отмахнулся: «Ведь я же не Чехов». Он себя чувствовал немного чужим у нас, но внешне это никак не выражалось, он просто не знал, как поначалу завладеть нашим вниманием. Рассказал, что только вернулся из Польши, и какие там есть прекрасные спектакли, и что его поразила в Варшаве одна актриса, которая в самом трагическом месте роли неожиданно рассмеялась, и как ему это понравилось. Говорил, что в наших театрах очень часто – замедленные, одинаковые ритмы, и что их надо ломать, как в современной музыке, и почему, например, в джазе такие резкие перепады темпа и ритма, а мы в театре тянем одну постоянную, надоевшую мелодию и боимся спуститься с привычного звука; об опере Шостаковича «Нос», которую недавно посмотрел в Камерном театре, – почти проигрывая нам весь спектакль и за актеров, и за оркестр; о том, как он любит слушать дома пластинки, особенно джаз, когда, нащупав тему и единое дыхание, на первый план выходит с импровизацией отдельный исполнитель, и как все музыканты поддерживают его, а потом подхватывают и развивают на ходу новую музыкальную идею, и почему в театре такое, к сожалению, невозможно; говорил о том, что он домосед, что не любит надолго уезжать из дома, о том, как однажды посетил места, где родился, и какое для него это было потрясение, напомнил, что первая реплика Раневской – «Детская…» – и с этой фразы перешел на экспликацию всего спектакля. Потом прочитал первый акт, иногда останавливаясь и комментируя. Сказал, чтобы мы с Вилькиным (ассистентом режиссера) развели без него первый акт и что он через неделю посмотрит, что из этого выйдет.
Мы остались одни. И я стала самостоятельно копаться в пьесе, перечитывая раз за разом одни и те же куски, не обращая внимания на авторские ремарки, которые давно играны и переиграны в театрах и обросли штампами. Я читала только диалоги.
Первый акт «Вишневого сада» Чехов начинает рассветом. Ранняя весна. Морозный утренник. Ожидание. В доме никто не спит. Епиходов приносит цветы: «Вот садовник прислал, говорит в столовой поставить». Садовник прислал (это ночью-то!). Все на ногах. Суета, и в суете – необязательные, поспешные разговоры. Лихорадочный, тревожный ритм врывается в спектакль с самого начала, он готовит такое же лихорадочное поведение приехавшей Раневской. Да, дым отечества сладок, но здесь, в этом доме, умер муж, здесь утонул семилетний сын, отсюда «бежала, себя не помня», Раневская, здесь каждое воспоминание – и радость, и боль. На чем остановить беспокойный взгляд, за что ухватиться, чтобы вернуть хоть видимость душевного спокойствия? «Детская…» – первая реплика Раневской. Здесь, в этой детской, и сын Гриша, и свое детство. Что здесь ей оставалось? Только детство, к которому всегда прибегает человек в трудные душевные минуты… Для Раневской вишневый сад – это мир детства, мир счастья и покоя, мир ясных чувств и безмятежности. Мир справедливых истин, мир ушедшего времени, за которое она цепляется, пытаясь спастись.
Чехов назвал «Вишневый сад» комедией, хотя это трагедия. Как никто, Чехов знал законы драматургии. Он знал: чтобы показать тишину, ее нужно нарушить. Трагедия, в которой от начала до конца плачут, рискует обратиться в комедию. И в то же время несоответствие поведения людей ситуации бывает трагично. Герои «Вишневого сада» шутят и пьют шампанское, а «болезнь» прогрессирует, и гибель предрешена. Об этом знают, но еще наивно пытаются обмануть себя. Беда и беспечность. Болезнь и клоунада. Во всех поступках героев есть что-то детское, инфантильное. Как если бы дети, – говорил Эфрос, – играли на заминированном поле, а среди них ходит взрослый разумный человек и остерегает их, предупреждает: «Осторожно! Здесь заминировано!» Они пугаются, затихают, а потом опять начинают играть, вовлекая и его в свои игры. Детская открытость рядом с трагической ситуацией. Это странный трагизм – чистый, прозрачный, наивный. Детская беспомощность перед бедой – в этом трагизм ситуации.
Ознакомительная версия. Доступно 17 страниц из 85