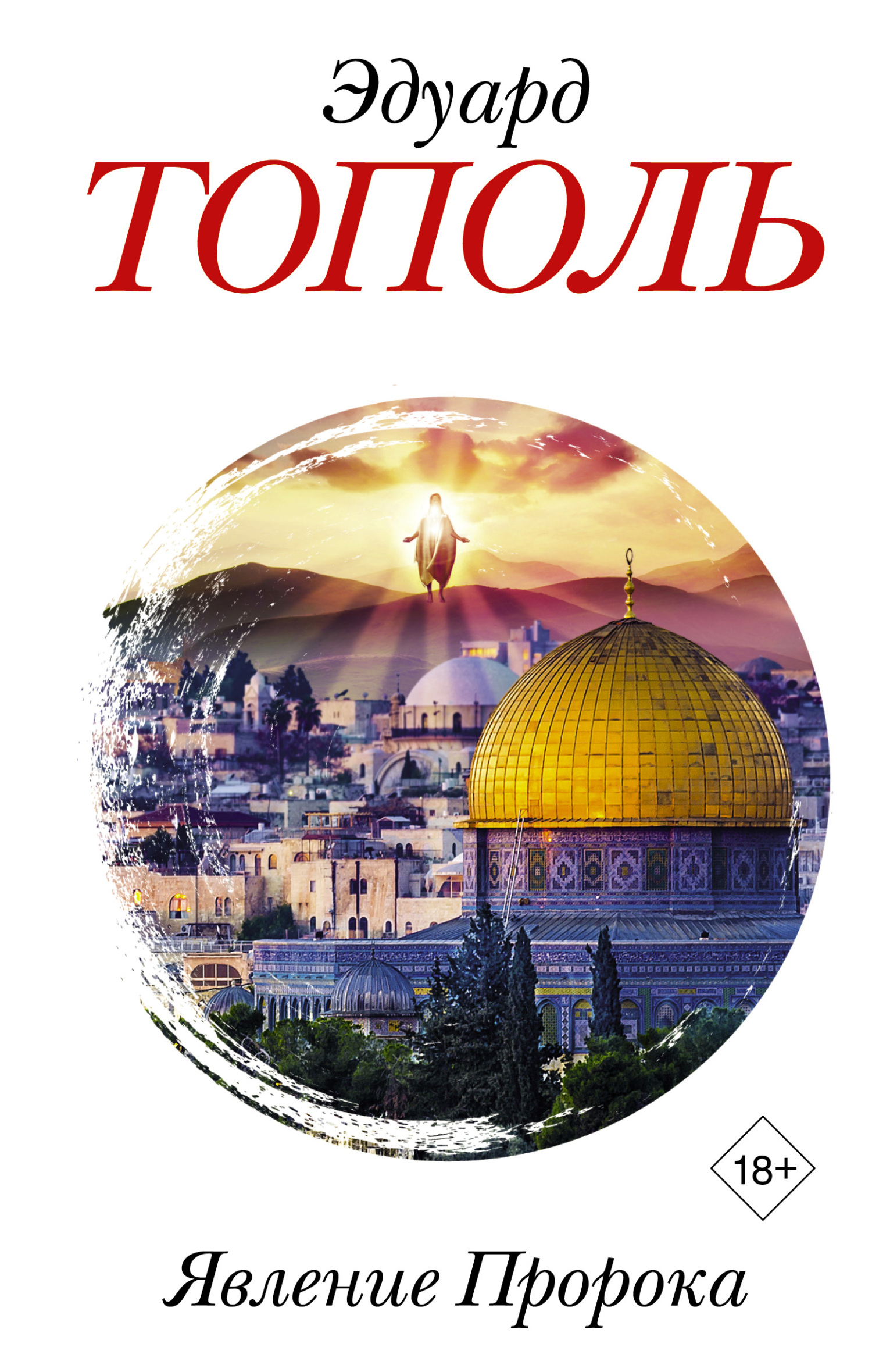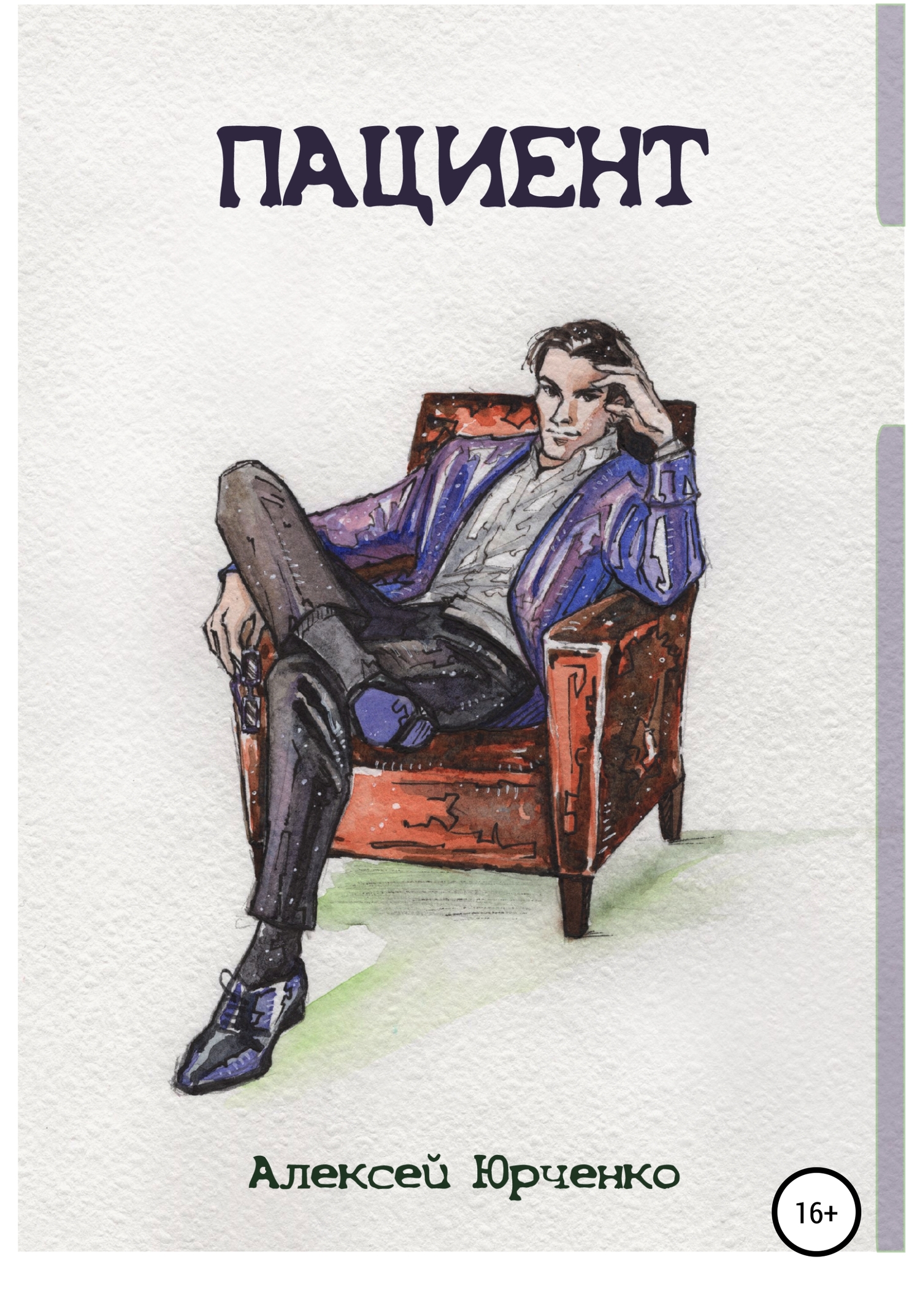пружинит жемчужно-белый снег. Накануне вечером, в конце прохладного сухого и совершенно безветренного дня, он накрыл остров пушистым одеялом. Затем настала столь же тихая ночь, а снег все падал. На деревьях и газонах он остался идеально белым и лишь вдоль кромки моря превратился в грязно-серую кашу.
Я достигаю ангара – той точки, откуда я начал пятикилометровую пробежку. Я опираюсь рукой о деревянную стену и растягиваю подколенные сухожилия, глядя, как от моего дыхания поднимаются облачка пара.
Вскоре подбегает Виллнер в серой облегающей футболке и черных брюках карго. Он замедляется и шагает к берегу и обратно, делая глубокие размеренные вдохи. Затем смотрит на меня, молча спрашивая, не пора ли нам возвращаться. Вместо ответа я поднимаюсь по пологому склону прочь от берега.
Под затянутым облаками небом, в окружении белых снегов и серого моря бетонные стены Призмолл-хауса смотрятся очень органично. Серый куб, будто несокрушимый страж, охраняет свои теплые покои с фигурными окнами от подкрадывающейся зимы. Я прямо радуюсь, что дом наконец-то нашел свое предназначение. А что тут странного? Ведь у здания не было выбора, как его станут использовать.
Осенью, после моего нападения на доктора Коделл, мне ввели седативное и отнесли на третий этаж, где подвергли более интенсивному медицинскому вмешательству. Я находился под наблюдением круглые сутки. Коделл и Виллнер по очереди дежурили возле меня, следили за моим состоянием, показателями жизнедеятельности, предупреждали любые возможные риски для здоровья.
Состояние, в которое меня погрузили, было сродни небытию – к счастью, настолько глубокому, что я ничего не замечал. Часы и дни сменяли друг друга без моего ведома. Конечно, они не пролетели как один миг, но воспоминания о времени, проведенном во сне, были столь скудны, что после пробуждения сразу же развеивались, словно дым. Краткие периоды бодрствования казались сюрреалистическими, управляемыми видениями, так как на время сеансов Разделительной терапии мне значительно понижали уровень седации.
Меня регулярно будили, каждый раз выводя из наркоза на все большее количество дней, давали возможность как следует отдохнуть, прийти в себя и заняться физкультурой под строжайшим присмотром Виллнера. Цикл «седация – пробуждение» методично повторялся. Какие-то изменения происходили постепенно, другие – резкими скачками. С каждым пробуждением травмированная нога становилась все лучше, пока две недели назад костыли мне стали совсем не нужны. Я наконец-то начал набирать вес, моя костлявая фигура стала обретать плавные очертания за счет мышц и здоровой прослойки жира. Моя физическая форма, несомненно, улучшалась: я бегал быстрее, поднимал более тяжелые веса и даже проплывал в бассейне на пять кругов больше. До приезда на остров я никогда не был фанатом тренировок.
Я толкаю распашные двери, и на меня обрушивается волна теплого воздуха. Мы с Виллнером идем в атриум. У растений в горшках ни одного сухого листа, они вновь сочного зеленого цвета, как и в день моего приезда. Весь дом словно помолодел, пока я лежал под наркозом. Запасы продуктов пополнены, везде сияющая чистота, и до того, как выпал снег, все газоны были подстрижены. Ни следа от запустения из-за моих протестов.
Со второго этажа доносится спокойный голос. Я поднимаю голову: на железном балконе стоит Коделл.
– Артур, вы не могли бы зайти ко мне, когда будет время?
С огромной потолочной росписи на нее смотрят нарисованные глаза. Доктор представляет собой странное зрелище. Если за последние недели и месяцы мое физическое и душевное состояние заметно улучшились, то Коделл стала выглядеть явно хуже. Теперь она общается в сугубо деловом тоне, хотя в бесстрастном голосе проскальзывает легкая грусть. Ее фигура словно усохла, плечи поникли, некогда широкая уверенная улыбка стала чисто механической. Взгляд, раньше ясный и прямой, теперь направлен куда-то в сторону.
Полагаю, Коделл надеялась на наше примирение. Рассчитывала, что я со временем приму ее образ мыслей и начну активно сотрудничать, чтобы излечиться. А в итоге доктору приходится бубнить над бесчувственным телом, ее мечты о доверии между доктором и пациентом, о покорении сердец и умов разбились вдребезги. Все свелось к топорным и нудным процедурам.
– Конечно, – отзываюсь я.
– Благодарю вас. – Коделл исчезает в недрах второго этажа.
Мы с Виллнером обмениваемся взглядами, в которых читается вежливое любопытство, и проходим к винтовой лестнице. Коделл стоит в кабинете у круглого окна и смотрит на юго-восток, в сторону Ливерпульского залива. Она явно чем-то обеспокоена и даже не глядит на меня, когда я тихонько захожу в кабинет и сажусь в кресло. Кабинет тоже потерял былой лоск: бумаги на столе лежат кое-как, на листе пластика под неоконченной мраморной статуей скопился слой пыли, книги не убраны на полки.
В повисшей тишине я смотрю на Виллнера, пытаясь угадать цель нашей с Коделл встречи. На его невозмутимом лице читается лишь твердая преданность, никаких намеков.
– В течение двух прошедших месяцев, – начинает Коделл, по-прежнему не глядя в мою сторону, – я решала очень сложную задачу относительно завершающих этапов вашего лечения.
Наконец она поворачивается ко мне лицом. Аккуратно отодвигает кресло, садится за широкий деревянный стол и опирается подбородком на сцепленные в замок пальцы.
– Как ваша пробежка?
– Прекрасно.
– Виллнер говорит, у вас прогресс.
– Судя по всему. Либо я просто стал больше стараться.
Коделл мельком улыбается и переходит к сути дела.
– Причина, по которой это решение так меня тяготило, заключается в том, что, на мой взгляд, оно может быть… неверно истолковано. Я не хочу, чтобы вы сочли, будто я руководствовалась каким-либо другим мотивом, кроме единственного – добиться вашего полного выздоровления.
– Почему я могу дать иную оценку?
Коделл вздыхает.
– Потому что с вашей точки зрения, да и объективно говоря тоже, такое решение мне на руку.
Я еще ни разу не видел доктора настолько взволнованной. Вся ее поза кричит о страшной неловкости, с губ слетают слова, которые Коделл явно не по нраву.
– Ну и? – поторапливаю я, сгорая от любопытства.
– Я считаю, что вы пережили здесь травмирующий опыт, – печально заключает Коделл. – Отчасти это было неизбежно, отчасти причина в вашем сопротивлении и, конечно, в том, что мы с вами не сумели понять друг друга.
– То есть я не сумел понять вас.
Коделл не отвечает.
– Полагаю, вы меня ненавидите. Думаете, что подвергались здесь мучениям. И если вы вернетесь во внешний мир с таким отношением, это перечеркнет ваше выздоровление.
– В каком смысле?
Она подыскивает нужные слова.
– С учетом вашего мнения о терапии, нельзя не опасаться, что вы отвергнете ее из принципа или воспримете собственное выздоровление крайне негативно, получив тем самым вторичную травму, если уже не получили.
– Видимо, в ходе моего лечения