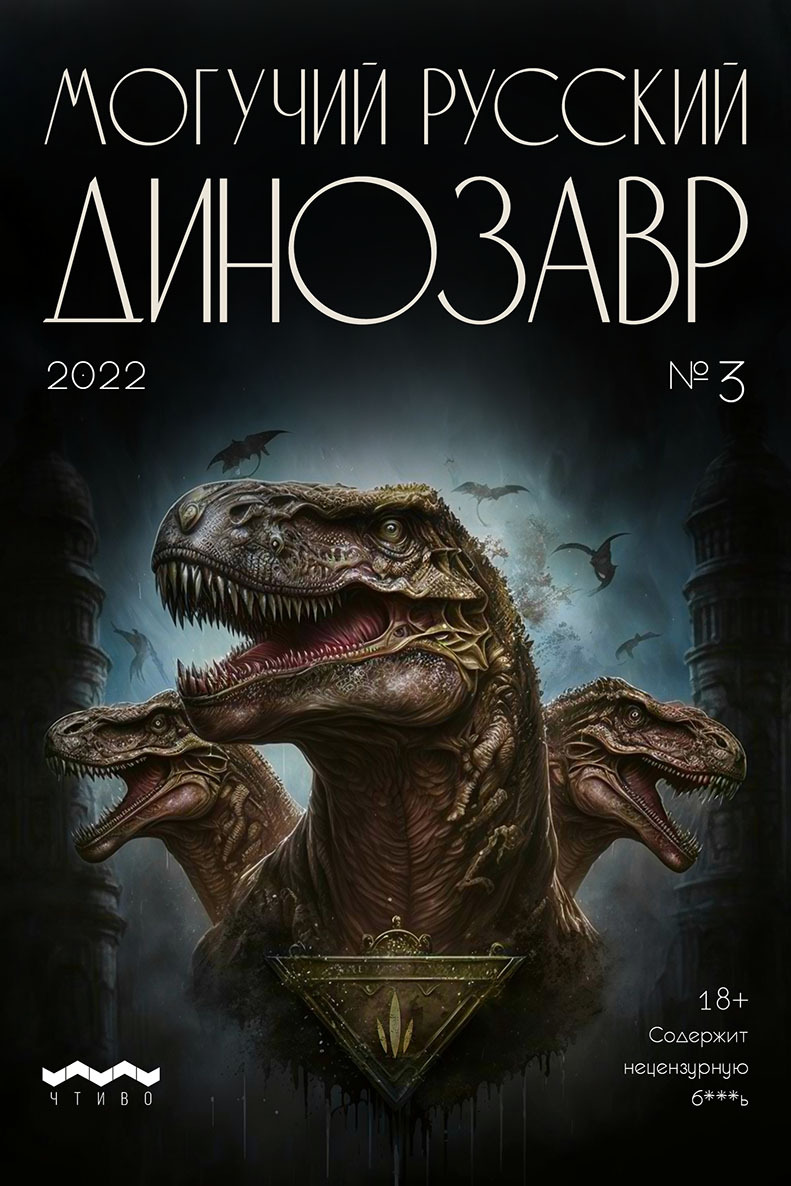щеке след от черной слезы. Совсем как у той, другой. Как и девушка в морге, она голая, но на этот раз я не могу накинуть на нее простыню и уйти. Я должна смотреть. На ее глаза, на ладони. На ее отвисшие губы, на рваную дыру в углу рта, сквозь которую видно зубы.
Все, что было прежде, казалось таким близким, таким непомерно огромным, что я не могла отвернуться, как ни пыталась. Но это – даже не знаю. Я здесь, но одновременно и нет, и это не моя рука хладнокровно тянется к трупу. Не моя рука слегка постукивает по ее блестящим зубам.
Наваждение спадает в один миг, с приливом тошноты и жара и покалыванием во всем теле, как будто после онемения. От такого мне не спрятаться. Даже в себе.
Я прижимаю руку к груди и смотрю на девушку. Как тогда, на шоссе, в мой первый день в Фалене. Еще одна девушка с моим лицом. Тогда я нашла логичное объяснение. Она у Кэтрин, а я у мамы. А вот ты кто такая?
Мне вдруг вспоминается первая ночь на ферме, когда я забралась с ногами на подоконник. Когда выглянула в поле и услышала плач. Услышала, как он оборвался. Это была она. Я почти уверена, что это была она. Эта девушка со сломанной шеей, с еще свежей, сияющей кожей. Девушка из ниоткуда. Новая. Очередная.
Во мне медленно нарастает ужас, из груди рвется поскуливание. Я должна передвинуть ее, хотя и боюсь того, что могу увидеть под ней. Сколько их было? Сколько раз бабушка убивала меня?
Я склоняюсь над ней, отгоняя очередную волну тошноты в пустом желудке. Берусь за запястья и тяну, зарываясь пятками в землю. Она такая тяжелая. Грунт сыплется ей на лицо, попадает в рот. «Прости», – хочется сказать мне, но она заслуживает большего, чем простое извинение.
Я кое-как вытаскиваю ее из могилы по пояс, раскладываю тело на траве. А под ней – под ней еще одно лицо. Мое лицо. Лицо бабушки, мамы, Кэтрин.
На этот раз она одета. Ее футболка и шорты ничуть не похожи на мое заляпанное нарядное платье, но я узнаю их. Одежда из комода в моей комнате. Я закусываю губу и оттягиваю воротник футболки. Вот оно – там же, что и на всех футболках в комоде. Имя моей матери.
Эта девушка бывала в Фэрхейвене. Она жила с бабушкой, и та одевала ее и кормила, а потом она оказалась здесь. Так же, как я.
Я знала. Знала. Но легче от этого не становится. По коже разливается жар, и меня мутит, но сильнее всего мне хочется плакать. Я смаргиваю слезы и продолжаю копать, чтобы рассмотреть ее получше.
Она моложе меня. Лет тринадцати-четырнадцати с виду. У нее мои пока еще не выцветшие веснушки, мои еще не поседевшие волосы. Но ее глаза, черные, вытекшие, принадлежат девушке из пожара, девушке, похороненной над ней. Ее плоть давно разбухла и разошлась, одежда наполовину истлела. А хуже всего – ее ладонь, разделенная на сегменты, как початок кукурузы. Вокруг рассыпаны белесые, плотные зерна, розовые у основания, которые выпали из ладони, оставив пустые ямки, измазанные черной жижей вместо крови.
Как та кукуруза, которую мы собирали. Я стараюсь дышать ровно и сохранять спокойствие, но деревья сжимают вокруг меня кольцо, а земля качается под ногами. Это уж слишком. Я пережила столько всего – но что мне делать с этим?
Проще копать дальше, чем думать. Я устала, ужасно устала, но я наклоняюсь и подхватываю ее под руки. Мой пот капает ей на лоб. Я пытаюсь его вытереть, но кожа расходится под моими пальцами, обнажая лобную кость.
Прижимая ладонь к животу, я отползаю от могилы и кричу в кулак. Каждым своим движением я делаю только хуже. Каждым прикосновением причиняю кому-то боль. Не надо было сюда приезжать. Не надо было выбираться из могилы.
Но я выбралась.
Я выжила, а они нет. Я здесь, а они нет, и кем бы они ни были, сестрами ли или чем-то иным, я должна выступить свидетелем. Должна увидеть их так же, как хотела быть увиденной Тесс.
Я поворачиваюсь, заставляю себя смотреть. Вот что с тобой случилось. Это происходило тогда и происходит теперь.
Я продолжаю копать. Тело за телом, одно поверх другого, и каждое следующее моложе предыдущего, и все в них неправильно, и запах разложения слишком чистый, слишком химозный. У одной из них шея покрыта синяками, а кожа сходит лоскутами, сминаясь как ткань. Другая, на первый взгляд, совсем не пострадала, как будто умерла во сне, и только опарыши кольцами обвивают пальцы. И чем глубже я копаю, тем меньше от них остается. Плоть расползается, корни деревьев растут из ребер. Наконец я добираюсь до последнего скелета – такого крошечного, что принадлежать он мог только младенцу.
Я тяжело сажусь на землю. Только теперь у меня начинают дрожать руки. Бабушка положила меня сюда, к остальным. Все они когда-то были живы, и бабушка одну за другой прятала их в доме. Неудивительно, что она так легко замахнулась лопатой. Она проделывала это много раз. Растила этих девочек, а потом убивала.
Так же, как почти убила меня. И та девушка, которую вытащил из кукурузных полей Илай, ничем не отличалась от других. Бабушка назвала пожар несчастным случаем, но я знаю, что это было на самом деле. Крайняя мера. Единственный способ поймать девушку, которая попыталась сбежать.
Я отползаю от могилы и, пошатываясь, начинаю идти по тропинке вглубь рощи. В сторону пепелища и почерневших стволов. Глаза жгут слезы, но я не понимаю, почему плачу, ведь это не по-настоящему. Так не бывает.
Я замираю, когда вижу его – маленький и плоский белый камень в траве. Это могила, осознаю я вдруг с кристальной ясностью. И мне не нужно копать, чтобы понять, кто там похоронен.
Кэтрин. Единственная из них – нас, шепчет в голове голос, нас, нас, нас, – кого хотели запомнить.
Я опускаюсь на колени рядом с надгробием и накрываю его ладонью, чуть вздрагивая, потому что в голову лезут воспоминания о коже девушек, лежащих позади. Ветви абрикосовых деревьев низко клонятся к земле. Одни мертвые, на других уже спеют плоды. Я срываю с ближайшей ветки абрикос.
Бабушка хранит в морозилке сотни абрикосов. Почему?
Я осторожно разделяю мякоть по шву. В центре, в неглубокой ямке, где должна быть косточка, лежит ровный белый зуб. Такой же я видела в Фэрхейвене в мусорном ведре. Крови нет. Вообще ничего нет. Он появился прямо