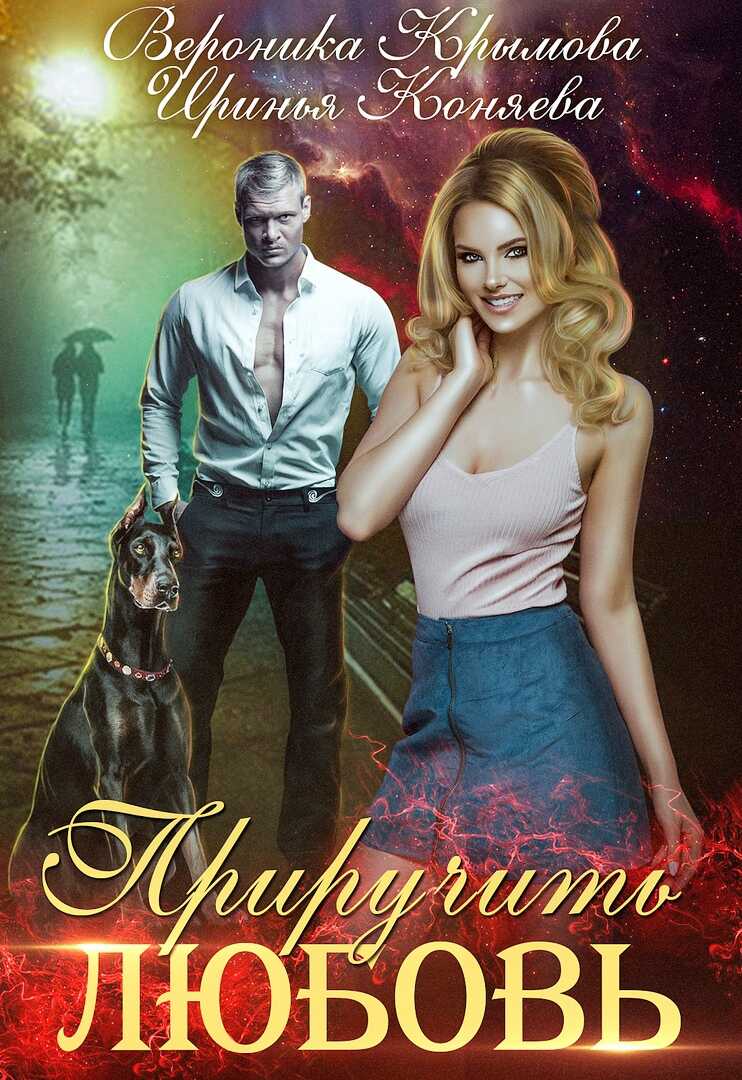будто даже занимает гораздо меньше места. Ее стрижка выглядит сегодня как прическа нездорового человека, а не как писк моды. Как ни тяжела была для меня прошедшая ночь, как ни саднит причиненная ею обида, я чувствую, что меня тянет к ней.
Я мигом все ей прощаю. При этом осознаю опасность. Кто поручится, что она не поведет себя со мной так же, как накануне? Но, видя ее сидящей за кадкой с пальмой, я инстинктивно распознаю в ней уязвимость. Она боится, что ее обидят, – о, как это мне знакомо!
При моем приближении она встает. Я останавливаюсь в двух футах от нее – во избежание физического контакта, который смутил бы нас обеих. До стадии примирения и поцелуев нам еще очень далеко. До воздушного поцелуя и то не дошло. Видно, что Урсула такая же противница прикосновений, как и я.
Мы обе молчим и смотрим друг другу в глаза. Ее опухли еще сильнее моих, хотя не исключено, что рано поутру она всегда так выглядит. Потом в уголке ее губ рождается кривая улыбка. Я держусь, не отвечаю – пока.
– Думаю, у нас вышло неудачное начало, – заговаривает она. Я выдерживаю ее взгляд. – Попробуем еще раз?
Я с легким раздражением отмечаю, что она даже не пытается извиниться, но прощаю ей это. Мы предоставляем друг другу второй шанс, и тут уж не до расшаркивания. Она наверняка сожалеет о случившемся, иначе вряд ли пришла бы. Вероятно, признаться в этом вслух свыше ее сил.
Я наконец перестаю ломаться и широко ей улыбаюсь – показываю, что способна ее простить, даже не дожидаясь от нее извинений.
– Да. Давайте попробуем.
Урсула кивает. От нее явно не дождешься ни извинений, ни признания ошибок, ни поиска виноватых – ничего.
– На Рыбацкой пристани есть славная пекарня, – говорит она. – Кофе там тоже недурной. Может, позавтракаем?
Я не против.
Мы покидаем отель. На улице прохладно, зато ясно, небо пронзительно-синее, нет ни следа обычных для Сан-Франциско утренних облаков. Отличная погода, чтобы все начать сначала. Мы шагаем бок о бок, но на тротуарах уже полно туристов, поэтому у нас вряд ли получилось бы завязать беседу, да мы и не пытаемся. Пекарня стоит прямо на набережной, ее широкие стеклянные витрины полны караваев всевозможных форм и цветов. Женщина в белом комбинезоне, с сеточкой на волосах, лепит прямо за витриной ежиков из теста и строит их рядами, как маленькую армию.
Урсула заводит меня внутрь и указывает на веранду.
– Найди столик, я принесу завтрак. Что тебе взять?
Она разговаривает приказным тоном, но я начинаю думать, что это ее обычная манера, и не возмущаюсь.
– Капучино. Еда любая, сами выберите, что посимпатичнее.
Здесь все симпатичное, поэтому она смотрит на меня как на дурочку, приподняв бровь и снова, как вчера, исполнившись высокомерия. Но по крайней мере, ничего не говорит, а просто встает в очередь.
Кафе заполнено туристами и людьми в деловых костюмах, привыкшими завтракать здесь перед работой. Одна стена стеклянная, за ней увлеченно трудятся пекари в белых фартуках: они достают из печей полные поддоны, отвозят тележки, груженные готовой выпечкой. Почему-то они напоминают мне умпа-лумпов из «Чарли и шоколадной фабрики», хотя все они нормального роста и вовсе не оранжевые. По периметру пекарни тянется на высоте трех метров конвейер, по которому корзины с хлебом едут к прилавку. Я выбираю одну и от нечего делать провожаю ее взглядом. Достигнув крайней точки траектории, «моя» корзина едет обратно, и никто ее почему-то не снимает. Наверное, это устроено для развлечения туристов.
Я поднимаюсь на веранду и нахожу свободный столик с видом на служебный двор и на залив. Отсюда виден даже мост.
Урсула приносит поднос с двумя белыми чашками и двумя тарелками с кусками пирога и безмолвно ставит его на столик.
– Спасибо. – Я беру чашку. Пирог небольшой, мой голод ему не утолить, но для начала сойдет. – Хорошее местечко, – говорю я, не зная, как еще начать.
Урсула кивает и режет свой кусок пирога на кубики, которые начинает по одному отправлять себе в рот. Я режу свой на две части и в один присест уминаю обе.
– Итак, подытожим, – говорит она, съев треть от своего куска. – Ты считала свою мать, мою сестру, умершей. Недавно ты узнала, что это не так… – Она делает паузу, как будто обдумывает свою фразу, и продолжает: – Или, по крайней мере, может быть не так. Твой отец болен какой-то формой деменции и не способен ответить на твои вопросы, поэтому ты разыскала меня. Так примерно? Я ничего не упустила?
Я не вижу ни малейшей эмоциональной вовлеченности. Для нее это просто перечень фактов, а не сложная, очень печальная история ее родной семьи. Но я готова допустить, что ее отстраненный подход облегчает мое положение. Бездушное перечисление фактов пока что не содержит главного. Я киваю, боясь, что от волнения могу потерять голос. В животе спазм, грудь сжимает, я молча сижу и жду, пока Урсула выложит мне правду обо всей моей жизни.
– Ну так вот… – Она смотрит в мои широко раскрытые глаза. – Нет, она не умерла, она по-прежнему с нами, благослови ее Господь.
Это сказано насмешливо, даже презрительно по отношению к ее родной сестре. Но мне не до ее тона, я силюсь осознать суть услышанного. Моя мать жива! Вопреки тому, что все твердили, она жива. Просто она нас бросила. Конечно, я бесконечно обдумывала эту возможность с тех пор, как наткнулась на открытки, но правда открылась только сейчас. У меня получается вымолвить одно-единственное слово:
– Почему?
Урсула берет свою чашку с кофе и принимается взбалтывать содержимое. Черная жидкость поднимается к самому краю чашки. Я уже думаю, что сейчас она зальет стол, но Урсула вовремя останавливается.
– Ты ведь понимаешь, Кара, что, когда я выложу то, что тебе хочется узнать, обратного пути уже не будет? Тебе не избавиться от этого знания, как бы ты ни старалась. Ты уверена, что тебе так уж этого хочется?
Как много я об этом думала! С тех пор как нашла открытки, бесконечно ломаю голову над этой проблемой, она у меня мотается туда-сюда, как игрушечный кораблик в шторм. Иногда мне кажется, что лучше было бы все это забыть и жить дальше по-прежнему. Но в глубине души я понимаю, что так не пойдет. Я должна понять. Теперь у меня нет обратного пути.
Я решительно киваю:
– Поверьте, я это знаю. Но я зашла так далеко, что иного мне уже не дано. Я