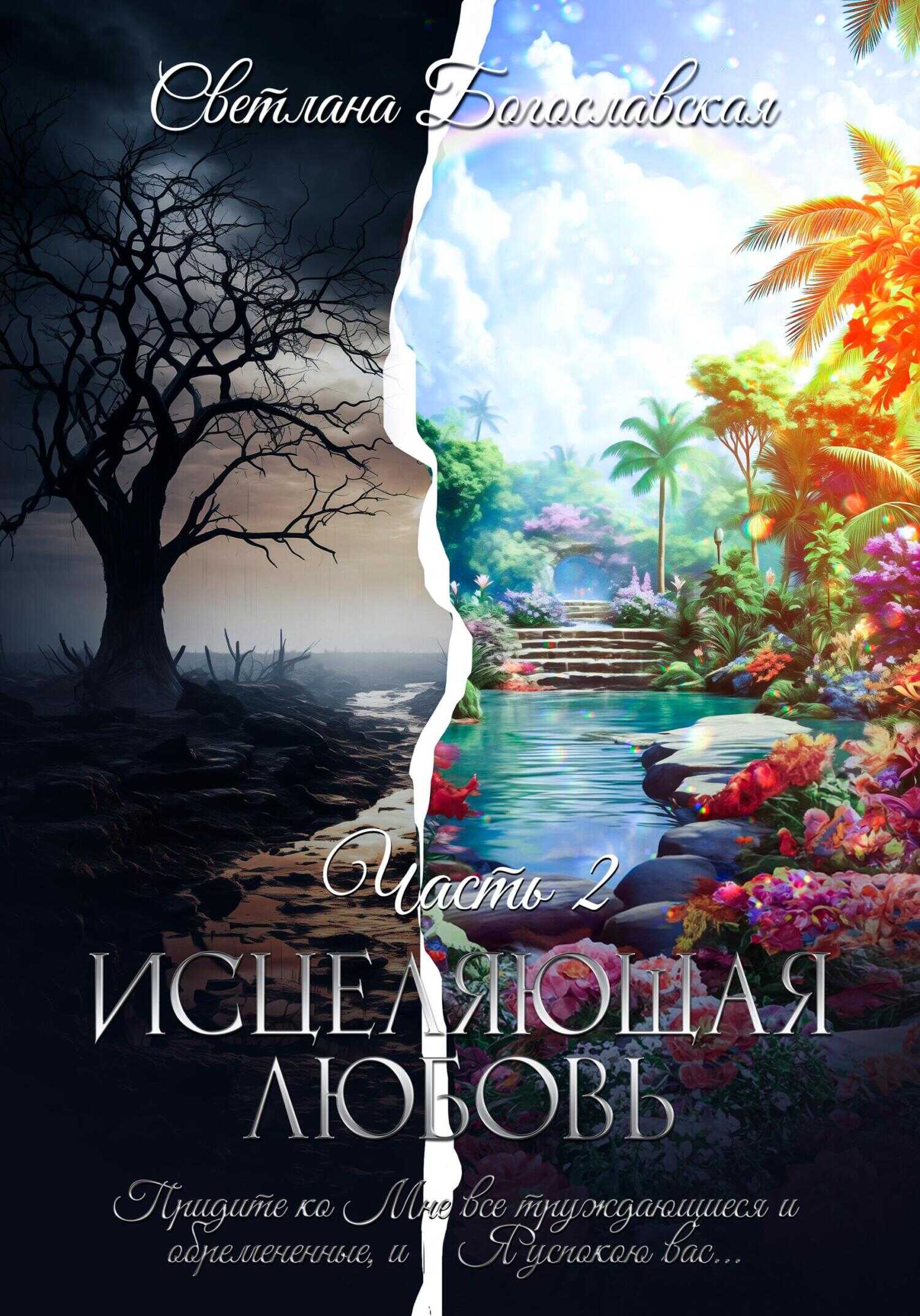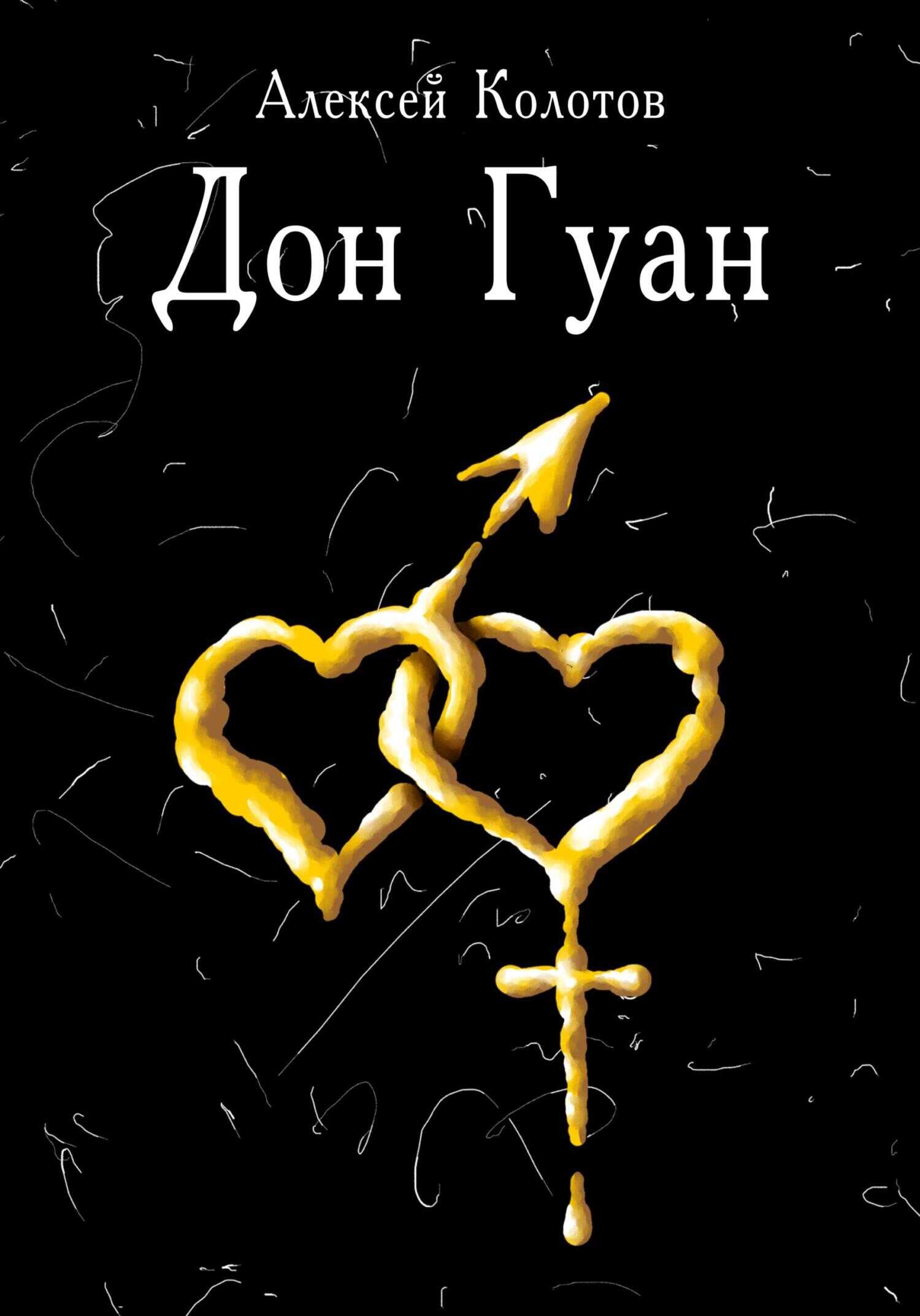class="p1">Возвращаешься на кухню. Мне тоже кажется, что я в этой комнате лишний.
6
Еще не так давно, когда ты снимал с мамы очки и придвигался к ее губам, она весело отворачивалась. Хотела потянуть время: «А давай сигаретку выкурим?» Ты брал с прикроватной тумбочки пачку «Житана» и говорил мне: «Иди поиграй к себе в комнату, малыш». Я слушался, как настоящий солдат, и ты закрывал за мною дверь.
Еще не так давно мы были счастливы. Каждое лето вы с Люлю разводили на заднем дворе ресторана костер и готовили огромную паэлью. Не просто так, а с целой горой риса, мидий, кальмаров, чоризо, кроличьих и куриных тушек. Все это тушилось на огне, которому Люсьен не давал потухнуть. Мне разрешали подбросить в костер несколько веточек. На кухне есть фотография, где мне три года и я сижу в казане для паэльи, а вы с Люлю держите его за ручки. Мама такие шутки не любила. Как-то она ужасно раскричалась потому, что ты позвал ее на кухню и открыл крышку большой кастрюли, в которой спрятал меня.
Мама каждое воскресенье просила тебя просто заказать что-нибудь, но ты постоянно ставил на кровать этот огромный казан для паэльи. «Это наш пикник», — смеялся ты, раскладывая устрицы, салат с апельсинами и теплую бриошь. Нам было запрещено самим себя обслуживать. Тарелки нам наполнял ты. Для мамы — выложенные в форме звезды устрицы и черный хлеб с маслом, для меня — бриошь со слоем растопленного шоколада и шантильи. Вот такой каждое воскресенье ты нам цирк устраивал. Делал вид, что что-то забыл, и скакал вниз по лестнице. Мама мне подмигивала и подносила крупную устрицу ко рту. Я по чуть-чуть слизывал шантильи, чтобы растянуть удовольствие подольше. Мы слышали, как ты несешься обратно, звук твоих шагов был каким-то особенно радостным. Ты появлялся с фужером шампанского и с синей вазой в руках, а в ней — пара веточек цветущей форзиции. Мама улыбалась, качая головой. Ты шептал:
— Моей принцессе. — А иногда еще тише добавлял: — Моей чертовой буржуинке.
Мама хмурилась:
— Замолчи!
Я всегда буду помнить, какими вы были на этих «воскресных пикниках». Мама сидит при параде на кровати, смакует шампанское и ест устрицы. На тебе — фартук, на коленях — большая чашка кофе, ты откинулся на подушку. Ешь дольку апельсина, а потом закуриваешь сигарету. Мне кажется, я никогда не видел, чтобы ты ел именно за столом. И вообще, можно ли называть это «едой», ты ведь просто подбирал мякишем остатки мясной подливки из кастрюли или срезал ножом остатки сыра с корки. Летом ты мог съесть помидор с солью, а зимой — пару листиков садового цикория, макнув их в горчичное масло.
Иногда после работы Люсьен готовил вам обоим омлет с зеленым луком, и вы доедали оставшийся кусок пирога. Вы ведь и в Алжире вместе ели ячменный хлеб, окуная его в оливковое масло, или перекусывали горстью миндальных орехов, предпочитая такую пищу той, что готовили на армейской кухне или выдавали сухим пайком. Когда мама тебе говорила, что ты плохо питаешься, ты отвечал, мол, «привык есть на бегу», что все повара так делают и что тебе нравится готовить не для себя, а для других.
Мне потребовалось время, чтобы понять: ты делал все возможное, чтобы мама даже не притрагивалась к кастрюлям. Надо сказать, что в нашей квартирке над рестораном кухни не было. Но на ресторанной кухне ты властвовал безраздельно, туда маме вход был закрыт. Иногда она спускалась, смущаясь и теряясь, когда хотела взять для меня кусочек сахара или немного варенья. В остальное время наша еда уже стояла готовой в окошке для раздачи, мы забирали ее и садились за тот самый маленький «мамин» столик у окна. Мы никогда не ели дежурное блюдо. Ты считал своим долгом приготовить нам «что-нибудь особенное». Мама обожала субпродукты. Ты отлично их готовил: прожаривал именно так, как она любила, — совсем немного, а потом карамелизировал в портвейне с добавлением соуса из телячьего бульона, сливок и горчицы. Мне ты подавал панированные в сухарях тоненькие отбивные с хрустящей корочкой. Спрашивал с волнением в голосе:
— Ну как?
Мы с мамой молча кивали с набитыми ртами, как два подростка. Но про себя я думал, что ты просто не подпускаешь ее к кухне.
На нашем последнем пикнике мама вручила тебе подарок. И наверное, с этого чертового подарка все и пошло наперекосяк. Она положила перед тобой на кровать толстую тетрадь в отличном кожаном переплете, с мягкими страницами цвета слоновой кости и красной шелковой закладкой.
Ты заинтригован:
— Это тебе для работы?
Мама посмотрела на тебя с нежностью, а еще немного устало, так было всегда, когда вы друг друга не понимали:
— Чтобы твои рецепты записывать.
— Записывать?! — Ты несколько раз повторил это слово, каждый раз чуть повышая голос.
Тебе казалось, что она так ничего и не поняла. Да, ты стал поваром. Посетители обожали твою стряпню, «Реле флери» работал как часы. Ты бы мог расширить дело, организовывать банкеты, свадьбы… Но в таком случае она ни черта не поняла в твоей жизни до и после. Раньше ты был помощником булочника, потом сержантом, но в глубине души ты был убежден, что ничего не выбирал, что просто у тебя такая судьба, мектуб[13], как говорили по ту сторону Средиземного моря.
Когда ты присоединялся к разговорам за барной стойкой, то часто повторял: «Жрать-то надо». Ты стал поваром, чтобы жрать. Но, быть может, ты предпочел бы стать моряком торгового флота? Врачом? Инженером в лесном ведомстве? Как-то раз ты встал на защиту осужденного за разбой паренька из неблагополучного пригорода. О процессе писали газеты. Ты же говорил, что он стал налетчиком, потому что «жил не в той половине города, где обитают одни буржуи». И еще произнес фразу, после которой за барной стойкой все примолкли:
— Из двух сволочей я предпочитаю бандюгана какому-нибудь богачу, живущему на доходы от сдачи квартир.
— Как ты можешь такое говорить, Анри? — выдавил один из посетителей.
Ты холодно ответил:
— Почему это не могу?
В фильмах ты предпочитал великодушным героям всяких негодяев, самураев и дезертиров. Я помню день, когда мы посмотрели «Таксиста» с Де Ниро. Ты тогда мне сказал:
— На его месте мог оказаться я, если бы вернулся из Алжира не с Люлю.
Никто не понимал скрытую ярость твоих слов — «жрать-то надо». Даже моя мать, агреже[14] по литературе, собирающаяся вновь взяться за диссертацию о Кребийоне-сыне