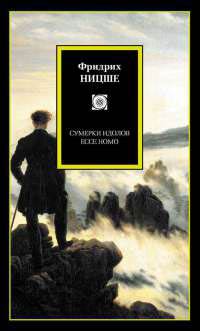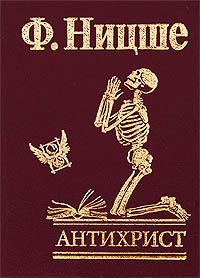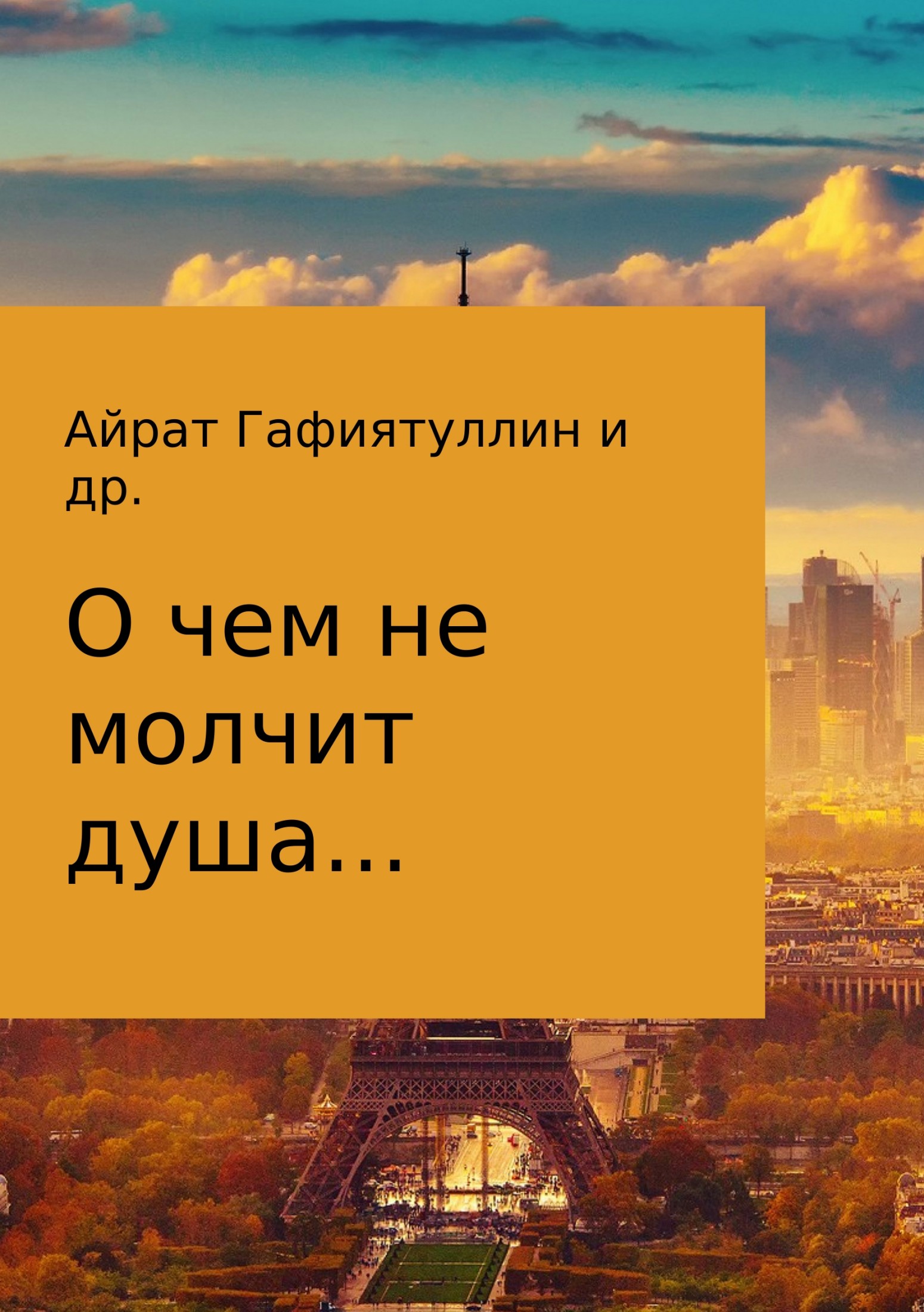образом... Здесь пришлось ей остановиться. Вслед за ней подошли остальные. Тысячу жизней отдал бы я в тот миг, лишь бы ее дослушать! Я так и не услышал конца. Быть может, над звездами узнаю я остальное.
Возле грота, куда мы опять возвратились, заговорила она о моем путешествии, просила поклониться от нее берегам Скамандра, Иде и всей старой троянской земле[31]. Я заклинал ее не говорить больше ни слова об этом ненавистном путешествии и уже хотел просить Адамаса возвратить мне данное ему слово. Но со всей силой своего очарования просила Мелите не делать этого; она уверена, ничто, как это путешествие, восстановит мир и радость между ней и мною; ей мнится, будто жизнь и смерть зависят от того, расстанемся ли мы на краткий срок, она уверяла меня, что и сама не понимает, почему просит меня о том столь настоятельно, но так надо, даже если то будет стоить ей жизни, так надо.
Я глядел на нее, пораженный, и молчал. Мне казалось, что я слышу жрицу в Додоне[32]. Я решился ехать, даже если и мне это будет стоить жизни. Было уже темно, и звезды появились на небе.
Грот был освещен. Фимиам облаками поднимался из глуби скалы, и вдруг после нескольких несозвучных аккордов хлынула торжественная, ликующая музыка.
Мы пели священные гимны о том, что пребывает вовеки, что продолжает жить в тысячах видоизменений, о том, что было, и есть, и будет[33], о неразлучаемости духов, ибо они есть единое искони и во веки веков, как бы ни разделяла их ночь и облака, — и все мы испытывали восторг при мысли об этом родстве и бессмертии.
Все во мне вдруг переменилось. «Пусть пройдет то, что проходит, — воскликнул я, обращаясь к моим воодушевленным спутникам, — оно проходит, чтобы возвратиться, оно старится, чтобы вновь стать молодым, оно разлучается, чтобы соединиться более глубоко, умирает, чтобы ожить еще более живым».
«Так должны пройти, — отозвался после недолгого молчания тиниот, — предчувствия детства, чтобы возродиться истиной в уме взрослого мужа. Так оцветают прекрасные мирты[34] юности мира, поэзия Гомера и его времени, пророчества и откровения, но зародыш, таившийся в них, обернется по осени спелым плодом. Простота и невинность первых веков умирает, чтобы возвратиться в совершенном творении, и святой мир эдема гибнет, чтобы вновь расцвело как завоеванное достояние человечества то, что было лишь даром природы».
«Прекрасно! Прекрасно!» — вскричал Нотара.
«Но совершенное приидет только в дальней стране, — промолвила Мелите, — в стране Встречи и вечной юности. Здесь же остаются лишь сумерки. Но где-то непременно оно воссияет для нас, это священное утро; я с радостью думаю о нем; тогда и мы все обретем друг друга — при великом Соединении всего разлученного».
Мелите была необычайно взволнована. Мы говорили очень мало на возвратном пути. У дома Нотары она протянула мне руку; «прощай, милый Гиперион!» были ее последние слова, и она удалилась.
Прощай, прощай, Мелите! Я не смею думать о тебе часто. Мне надо остерегаться боли и радости воспоминаний. Я словно больное растение, что не выносит лучей солнца. Прощай и ты, мой Беллармин! Приблизился ли ты за это время немного к святилищу Истины? Если б я мог спокойно искать его, как ты!..
Ах, если б хоть раз побывать мне там, все было бы со мной иначе. Глубоко под нами шумит река забвения, неся и обкатывая обломки, и мы уже не вздыхаем, как если бы стоны тех, кого она увлекает с собой вниз, растворялись в безмолвных высотах Истинного и Вечного.
Кастри у Парнаса[35]
О нынешней моей жизни в другой раз! И о моем путешествии с Адамасом, может быть, в другой раз! Особенно памятна мне ночь перед нашим отъездом, когда мы на берегах древнего Илиона, среди могильников, быть может насыпанных Ахиллу, и Патроклу, и Антилоху[36], и Аяксу Теламону[37], говорили о прошлом и будущем Греции и о многом другом, что исходило из глубин наших душ и в глубины их возвращалось. Сердечное прощание Мелите, сильный дух Адамаса, героические фантазии и мысли, что, подобно звездам в ночи, указывали нам путь из руин и могильников старого мира, тайная сила природы, изливающаяся на нас повсюду, где свет и земля и небо и море вокруг, — все это укрепило меня, и я чувствовал в себе еще какие-то движения, кроме боли моего жаждущего сердца; «Мелите будет радоваться тебе!» — говорил я себе тайно с внутренним удовольствием, и тысяча золотых надежд присоединялась к этой мысли. Потом на меня вновь нападал какой-то странный страх, увижу ли я ее, вернувшись, но я выбросил эту мысль из головы, приписав ее возникновение моей прежней мрачной жизни.
У Сегейских предгорий я нашел корабль, уже поднимавший паруса в Смирну, и мне было приятно, что мой обратный путь пролегает по морю через Тенедос и Лесбос[38].
Спокойно плыли мы к порту Смирны. В нежном мире ночи парили над нами герои звездного неба. Чуть рябила морская волна в лунном свете. В моей душе не было столь мирно. Правда, под утро я забылся легким сном. Меня разбудил веселый щебет ласточек и говор на пробуждающемся корабле. Со всеми своими надеждами устремилось мое сердце навстречу дружелюбным берегам своей родины, навстречу утреннему свету, что уже занялся над вершиной сумеречного Пагуса и его ветшающей крепостью, над минаретами мечетей и темными рощами кипарисов, и с чистым сердцем я улыбался домишкам на берегу — подобно волшебным замкам смотрели они своими светящимися окнами из-за пальм и олив.
Радостно играл инбат[39] моими волосами. Радостно резвясь, бежали перед кораблем мелкие волны к берегу.
Я смотрел, и чувствовал все это и улыбался.
Как прекрасно, что больной не имеет предчувствий, когда смерть уже подступила к его сердцу.
Из порта я поспешил к дому Нотары. Мелите там не было. Ее внезапно увезли по приказу отца, сказал мне Нотара, и никто не знает куда. Отец ее покинул области Тмола, и ему не удалось узнать ни места его нынешнего пребывания, ни причины переселения. Не знала того, видимо, и сама Мелите. Впрочем, в день отъезда она почти не говорила. Только попросила его передать мне привет.
Мне будто вынесли смертный приговор. Однако я встретил его спокойно. Я пошел домой, уладил мелкие свои дела и внешне был совсем как другие. Я убрал все, что могло бы мне напомнить