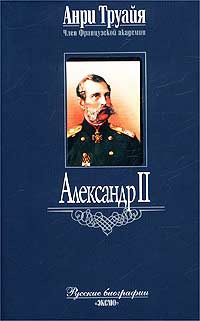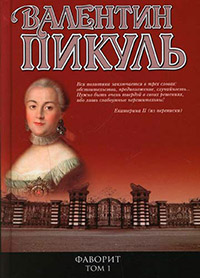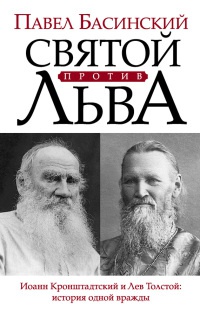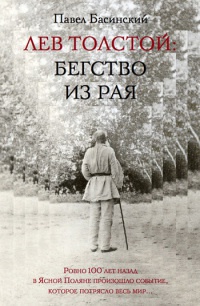Когда Россия узнала, что рескриптом от 20 ноября 1857 года царь Александр одобрил инициативу дворянских комитетов в их стремлении подготовить освобождение крестьян, у либералов вновь появилась надежда: Колбасин от всего сердца поздравлял с этим событием Тургенева, Анненков писал Тургеневу, что близок день, когда, умирая, можно будет сказать, что теперь ты действительно порядочный человек, а Иван Сергеевич – Толстому, что столь долго ожидавшееся всеми событие вот-вот случится и он счастлив, что дожил до этого момента.
Двадцать восьмого декабря Толстой, который все еще был в Москве, присутствовал на торжественном банкете, организованном профессором Кавелиным ради примирения всех либеральных партий вокруг идеи отмены рабства. Но братских объятий не получилось – славянофилы собрание игнорировали. Тем не менее участвовали сто восемьдесят человек и произнесено было немало речей. Все эти льстивые речи, адресованные просвещенной власти, благородные дворяне и славные мужики вызвали у Льва только неприязнь, он устал от разговоров, дискуссий, торжественных речей, и все, что полезно государству, казалось ему вредным для людей. Он считает человека, увлекшегося политикой, потерянным для настоящих размышлений. Художник должен заниматься вечными, а не сиюминутными проблемами. «Политическое исключает художественное, ибо первое, чтобы доказать, должно быть односторонне».[289] Некрасов и окружавшие его люди придерживались иного мнения. С досадой читал редактор «Современника» «непрогрессивные» фразы, как, например, в рассказе Толстого «Альберт», что только красота неоспорима в этом мире. Он немедленно написал автору, чтобы выразить свое разочарование: «Милый, душевно любимый мною Лев Николаевич. Повесть Вашу набрали, я ее прочел и по долгу совести прямо скажу Вам, что она нехороша и что печатать ее не должно. Главная вина Вашей неудачи в неудачном выборе сюжета, который, не говоря о том, что весьма избит, труден почти до невозможности и неблагодарен… Эх! пишите повести попроще».[290]
Несколько удивленный подобной просьбой, Толстой забирает «Альберта», чтобы поправить, и 25 ноября раздраженно записывает в дневник: «Напечатаю». Еще недавно вместе с Тургеневым, Григоровичем и Островским он создал группу, которая следила за тем, чтобы исключительное право на публикацию произведений авторов «Современника» принадлежало именно этому изданию. Но радикальная направленность журнала с некоторых пор стала вызывать его неодобрение. Критика Некрасовым его повести окончательно заставила Льва сблизиться со сторонниками чистого искусства Дружининым и Боткиным, и 17 февраля 1858 года он уведомляет Николая Алексеевича, что отказывается от «обязательного соглашения» с ним, что союз их «ни к черту не годится», обещает все лучшее печатать все-таки в «Современнике» и в качестве «отступного» предлагает несколько вещей, среди которых измененный вариант «Альберта». Некрасов нехотя отпустил на свободу основного своего сподвижника и напечатал нелюбимого «Альберта». Критика была сурова: рассказы «полусумасшедшего» не могут служить источником для произведения искусства, это неоконченное психологическое исследование не оставляет у читателя никаких впечатлений. Несмотря на шквал отрицательных отзывов, Толстой по обыкновению продолжает работать сразу над несколькими вещами: «Тремя смертями», к которым постоянно возвращается, «Семейным счастием», к написанию которого подтолкнули взаимоотношения с Арсеньевой, и «Казаками», которых хочет превратить в нечто эпохальное, подобное Гомеру: «Илиада» заставляет меня совсем передумывать «Беглеца».[291]
Он живет в Москве с сестрой, которая, уйдя от мужа, стала озлобленна и нервна, братом Николаем, племянниками, тетушкой Toinette, но семейной жизни ему недостаточно – жаждет иной деятельности. Избыток энергии Лев пробует израсходовать в гимнастическом зале на Большой Дмитровке. «Надо было видеть, с каким одушевлением он, одевшись в трико, старался перепрыгнуть через коня, не задевши кожаного, набитого шерстью конуса, поставленного на спине этого коня», – вспоминал Афанасий Фет. Толстой в это время много занимался музыкой, организовывал концерты и даже разработал устав камерного оркестра, во главе которого был его давешний соперник, пианист Мортье де Фонтен, очаровавший Валерию Арсеньеву; правда, проект провалился из-за финансовых проблем. Огни театров, гостиных, бальных залов манили его каждый вечер. Он тщательно готовился к таким выходам: белый галстук, костюм от Шармера, бекеша с бобровым воротником, шляпа, модная трость. По словам одной из современниц Толстого, у него была прекрасная выправка, и даже в самой его некрасивости было что-то привлекательное, глаза, полные жизни и энергии, говорил всегда громко и отчетливо, со страстью, пускай речь шла о пустяках; с его приходом все внезапно освещалось. Знал ли он о впечатлении, которое производил? Женщины, как всегда, околдовывали и беспокоили его, он был влюблен в четырех или пятерых одновременно и не мог остановить свой выбор ни на ком.
Сначала по возращении обратился к подруге своей юности, обворожительной Александре Оболенской, которая так хороша, когда, танцуя, склоняет головку немного набок. Льва сердило, что она замужем, но сам не отходил от нее, намеками говорил о своих муках, та делала вид, что не понимает их. «Положительно, женщина, более всех других прельщающая меня», – появляется запись 6 ноября, «Александрин держит меня на ниточке, и я благодарен ей за то. Однако по вечерам я страстно влюблен в нее и возвращаюсь домой полон чем-то – счастьем или грустью – не знаю» (1 декабря), «Все-таки я люблю и глуп с ней» (4 декабря). Тем не менее, тогда же, 4 декабря, отмечает, что Екатерина Тютчева, дочь поэта, была как никогда мила с ним. Накануне Нового года она начинает «спокойно нравиться» ему, 1 января 1858 года – «Катя очень мила», седьмого – «Тютчева вздор!», восьмого – «Нет, не вздор. Потихоньку, но захватывает меня серьезно и всего», девятнадцатого – «Занимает меня неотступно», двадцатого – «Все-таки я знаю, что я только страстно желаю ее любви, а жалости к ней нет», двадцать шестого – «Шел с готовой любовью к Тютчевой. Холодна, мелка, аристократична. Вздор!», восьмого марта – «Был у Тютчевой, ни то ни се, она дичится», тридцать первого марта – «Тютчева мне решительно не нравится». Через несколько месяцев он найдет ее некрасивой и холодной, но все же будет задаваться вопросом, не следовало ли «без любви спокойно жениться на ней».[292] Одновременно Толстой продолжает вздыхать по княжне Львовой, которая ему очень понравилась в Париже и несколько меньше в Дрездене. Его также интересует княжна Щербатова, кажется, он никогда не видел подобной свежести.
Но как бы ни менялись его симпатии – к замужним женщинам и молоденьким девушкам, только одна из них занимала его сердце – «бабушка», Александра Толстая. Она проездом была в Москве, и Лев без конца навещал ее, беседовал с нею, находил ее «отличной», «единственной», потом, взглянув на нее трезвым взглядом, с ледяной жестокостью отмечал: «Александрин Толстая постарела и перестала быть для меня женщина».[293] Что, впрочем, не мешало на следующий день вновь с удовольствием с ней видеться. Он проводил ее до Клина, на несколько дней заехал к княжне Волконской, двоюродной сестре своей матери. Когда Александра уехала в Петербург, в нем снова вспыхнул огонь, погасший было в ее присутствии. В Пасхальный понедельник 24 марта он пишет ей: «Христос воскрес! милый друг бабушка!..мне так что-то хорошо на душе, что не могу не поговорить с Вами. Когда у меня в душе беспорядок, я при Вас и заочно стыжусь Вас, когда же, как теперь, – не слишком дурно, чувствую в себе храбрость смотреть Вам прямо в лицо и спешу воспользоваться этим… Откуда у Вас берется эта теплота сердечная, которая другим дает счастье и поднимает их выше? Какой Вы счастливый человек, что можете так легко и свободно давать другим счастье… Как ни смотришь на себя – все мечтательный эгоист, который и не может быть ничем другим. Где ее взять – любви и самопожертвования, когда нет в душе ничего, кроме себялюбия и гордости?.. Моя амбиция состоит в том, чтобы всю жизнь быть исправляемым и обращаемым Вами, но никогда не исправленным и обращенным».