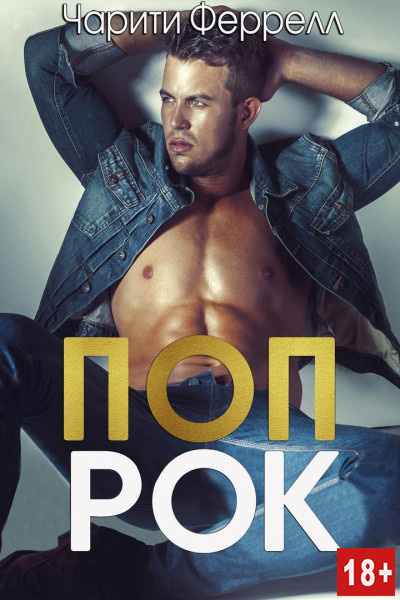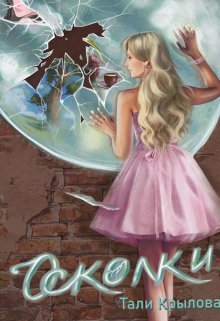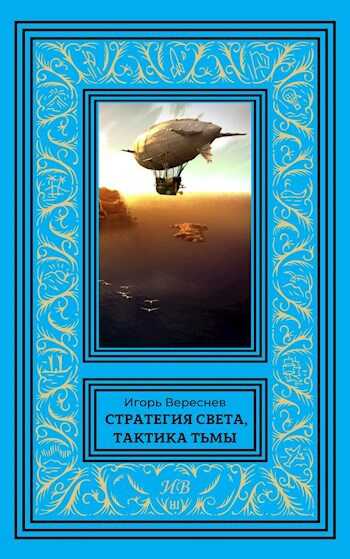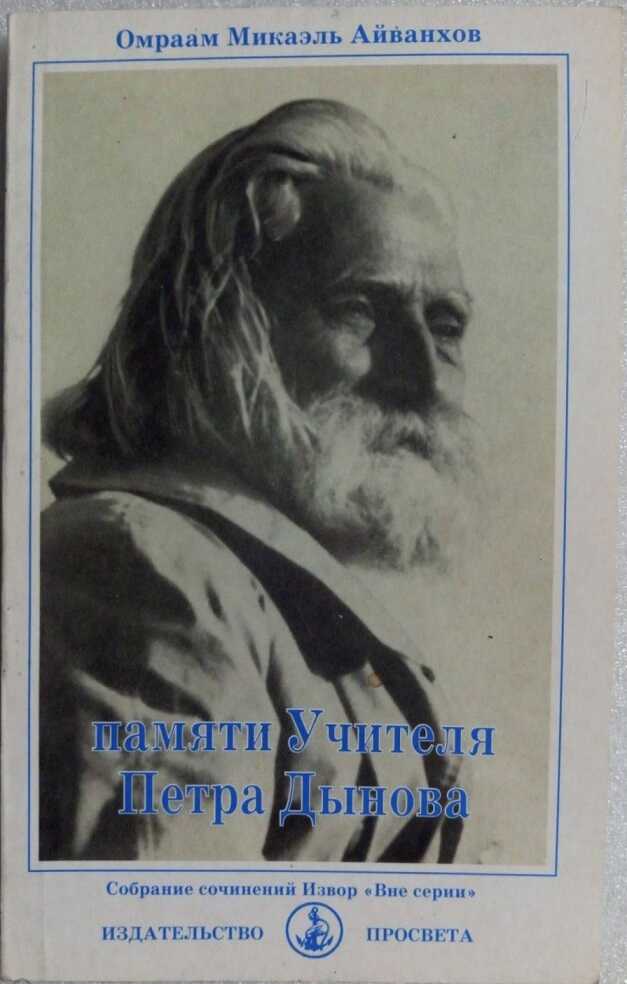терпела как можно дольше, потому что дома мне было бы гораздо удобнее, чем в больнице. Конечно, он во всем был прав, но мое отчаяние понимает только тот, кто сам испытал родовые муки. В критические моменты помимо того, что я сквернословлю, во мне присутствует Мария из предместья, и тогда никто меня не остановит. Подобное поведение является отличной защитой для человека, пребывающего в отчаянии. Не знаю почему, но у меня это всегда очень хорошо срабатывало, и я успокаивалась. Когда я была непоседливой девчонкой, мама отвозила меня в парк Чапультепек или в какой-нибудь другой парк и говорила: «Доченька, носись по всем лужайкам и кричи во всю мочь любые грубые слова, какие тебе захочется». Я носилась, как безумная и непрерывно орала «жо-о-па, жопа, жопа». Через полчаса я возвращалась к машине, время от времени тихо бормоча себе под нос «задница… задница». Эта стратегия срабатывала.
Пока мы добирались до больницы, Томми, не переставая, приговаривал: «Беби, успокойся, мы сейчас приедем. Я люблю тебя… Малышка, мы в одном шаге от больницы, успокойся». «Какое там успокойся, — думала я. — Какое, к черту, спокойствие». Прижавшись лицом к оконному стеклу, я тяжело дышала, обливаясь потом при каждой схватке и неистово желая увидеть въезд в больницу сквозь запотевшее стекло. У меня было ощущение, что все мое тело ужасно горячее, но начинается очередная схватка, и мне нужно думать о том, чтобы расслабиться и уменьшить боль. Потом я почувствовала все сразу: жар, поднимавшийся к голове, судороги в ногах и расходящиеся кости в нижней части спины. Ощущение такое, что, не спрашивая разрешения, тебя втянули в бои без правил и провели прием «дробилка» ударив поясницей о подставленное колено и выламывая ее, не говоря уже о боли в боковой области спины, как будто у тебя проблемы с почками… В этот момент во всем теле жутко неприятые ощущения… а тут еще Томми сидит рядом со мной и твердит свое «Беби, я тебя люблю»… «На чем бы мне его повесить?» — вот единственное, о чем я могла думать.
Когда мы приехали в больницу, анестезиолог предложил мне эпидуральное обезболивание, чтобы успокоить боль. Это была настоящая пытка. Я не знала, что было худшим, то ли боль от тридцатисантиметровой иглы, входящей в позвоночник, то ли схватки в полном объеме. Процесс затянулся и показался мне вечностью. В тот момент мне хотелось топать ногами и растоптать врача. Это был лысый мужчина приблизительно сорока лет, похожий на Питбуля[68]. Когда препарат начал действовать, это было чудо. От переполнявших меня чувств и благодарности, я схватила его и крепко поцеловала в лысину, говоря: «Я тебя ЛЮБЛЮ! Ты даже не представляешь, как я тебя люблю!» Томми и медсестры умирали от смеха, но я говорила серьезно.
Проблема заключалась в том, что время шло, а шейка матки не раскрывалась. Когда пришел мой доктор, то, осмотрев меня, он сказал:
— Шейка едва открыта, всего на два с половиной сантиметра. Если в ближайшие часы, она не откроется, придется делать кесарево сечение.
— Нож в моем теле… не-е-ет… Доктор, ради бога, не кесарите меня, все, что угодно, только не кесарите! — твердила я с мольбой в глазах.
Доктор внимательно посмотрел на меня и сообщил, что есть один способ открыть шейку матки — сделать ручное стимулирование. Он подробно объяснил, что это похоже на выжимание сока из апельсина, и проделывается только три раза, но при этом существует риск инфицирования, и может быть летальный исход. Второй способ — это просто сделать кесарево сечение. Я закричала:
— Да выжимайте же, наконец, этот долбаный апельсин!
После тридцати двух часов обычно протекающих родов, началась борьба за то, чтобы помочь ребенку выйти. Еще час и десять минут потуг ушли на то, чтобы вышла довольно крупная головка моей славной дочурки. Так появился на свет мой головастик, мой смышленый и упрямый карапузик. Моя малышка родилась в три часа утра. За месяц до этого события я принесла доктору в консультацию список своих пожеланий. Я уладила вопрос о том, чтобы во время родов передо мной поставили зеркало, потому что мне хотелось видеть воочию рождение малышки. Еще я хотела, чтобы сразу после рождения ребенка положили мне на грудь, чтобы он чувствовал меня, а я его. Также я попросила, чтобы пуповину перерезала я сама, но доктор с жаром возразил: «Ты с ума сошла. Никогда за всю свою жизнь я не позволил этого ни одной матери». Тогда я пригрозила ему, что, если он мне не разрешит, я сменю врача, и он согласился.
Когда доктор увидел, как я лежу с ребенком на животе и плачу от огромного счастья вместе со стоящим рядом со мной мужем, он сказал: «Пришло время перерезать пуповину. Талия… ты готова сделать это?» Посмотрев на Томми, я уверенно ответила: «Да». Я взяла ножницы и сказала Томми, чтобы он положил свою руку на мою, и мы вместе перерезали пуповину. Какой же это был чудесный миг, мгновение вечности. Я только просила Бога, чтобы мы с Томми смогли с той же отвагой перерезать пуповину наших чувств и эмоций, когда наступит момент, и наша доченька захочет стать независимой, быть свободной женщиной, при этом всегда имея нашу родительскую поддержку.
Когда я увидела ее личико и эти глазки, ищущие мои глаза, ее маленькую ручонку, я поцеловала ее и расплакалась. Стоило пройти через все эти муки и боль, пережить тридцать два часа борьбы ради возможности видеть ее, быть с ней рядом. «Я люблю тебя, родная, солнышко мое, я люблю тебя» — повторяла я раз за разом. Мы все плакали и не могли сдержаться, но, думаю, что Томми плакал сильнее всех.
Когда мне эпидурально ввели обезболивающее, и оно подействовало, я предложила Томми пойти в бар, где мы познакомились и выпить два мартини, один бокал — за мое здоровье, второй — за себя, а потом позвонить нашим друзьям и начинать праздновать. На самом деле его единственным делом было снять на пленку все, что происходило «за кулисами». Когда он вернулся уже подшофе, то ни Скорсезе, ни Спилберг не сняли бы лучше его. Это была самая лучшая короткометражка, какую я видела; я вручила бы за нее Оскара. С камерой в руках он снял, как мы заходили в