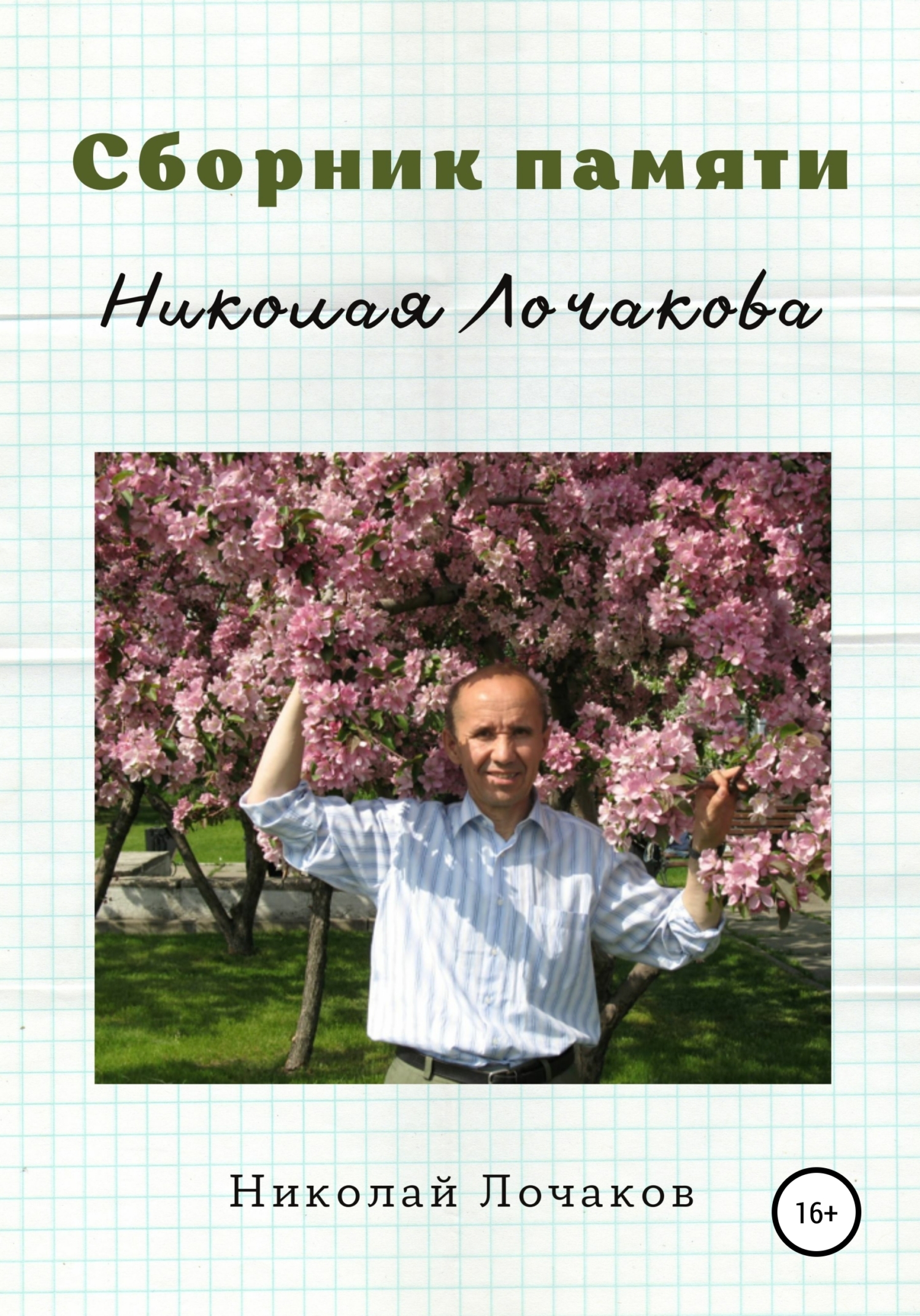что произошло дальше между тобой и Боллем?
– Она дала мне эти два конверта. И я открыла их. Как и она, я долго разглядывала фотографию. Ведь я впервые увидела Элимана. Боллем сказала правду: он был очень красив, молодой, но зрелый. Я уже видела эти черты. Мне не нужно было рассматривать его лицо анфас и детально, чтобы отметить смутное, неуловимое, но несомненное сходство с моим отцом. Это бросалось в глаза.
– Значит, это был он?
– В смысле?
– Тот незнакомец, который спас Марем в «Элегии черной ночи», когда она истекала кровью на улице Дакара?
– Ты прямо читаешь мои мысли. Не сегодняшние, а мысли 1985 года, когда я впервые увидела это фото у Брижит Боллем. Я впилась взглядом в лицо Элимана и спросила себя: тот ли это человек, которого я видела, когда была между жизнью и смертью, пока он вез меня в больницу. Ответ тебя разочарует: я не знаю. Глядя на лицо Элимана на фотографии, я поняла, что не видела моего спасителя. Я только представляла себе его лицо. А потом наделила этим лицом Элимана, но оно не имело ничего общего с лицом человека на фотографии. И теперь я не знаю. Человек, который спас меня тогда, на улице, был Элиман, я в этом уверена. То есть я хочу сказать, что в него вселился дух Элимана. Понимаешь?
– Да, понимаю. Но жду продолжения. 1985 год, ты разглядываешь фотографию. А потом?
– А потом я медленно, очень медленно читаю письмо. Оно было таинственное, с предсказаниями, но понятное. Проблема в том, что, когда тебе все понятно, это еще не значит, что все становится ясно. Нет-нет, Диеган, я не собираюсь говорить загадками или морочить тебе голову. Письмо действительно было таким. Ты уже знаешь последнюю фразу: «Теперь, когда все свершилось или скоро свершится, я могу наконец вернуться к себе». Ты ведь понимаешь смысл этой фразы, она такая четкая и прозрачная, однако у нее может быть много значений. Боллем в своем расследовании уже говорила о неоднозначности письма, о многообразии его возможных интерпретаций. В каком смысле его понимать – в буквальном или в символическом? Воспринимать его непосредственно или как серию метафор? О письме Элимана трудно высказаться прямо и категорично. Для того, кто что-то знал о его жизни, каждая фраза обретала двусмысленность и позволяла предположить в ней двойное дно. Письмо короткое, но я потратила уйму времени, читая и перечитывая его, пока Боллем не произнесла:
– Оно не оставляет равнодушным, правда?
– Правда.
– Когда я прочла его в 1948 году, – продолжала Боллем, – у меня была та же реакция, что у вас сейчас. С той ночи меня еще долго не покидало ощущение, что невидимая тень Элимана следует за мной или вдруг проносится мимо. Или это я сама повсюду искала его? Не знаю. Но я чувствовала, что он где-то здесь, в этом городе, в этом мире… Возможно, только у меня в душе… Но он был где-то здесь. Он следил за мной. Иногда в животе у меня распространялось нежное тепло, и я чувствовала себя защищенной, неуязвимой. А порой я ощущала на себе чей-то злобный взгляд, таивший смертельную угрозу. Порой мне казалось, что он сердится на меня за то, что я, затеяв это расследование, стараюсь извлечь его из кокона молчания, в котором он замкнулся, а порой – что он благодарен мне за эти попытки. До последнего времени мне постоянно чудилось, что я не одна. В этом было что-то неприятное, но вместе с тем успокаивающее. Мне понадобились долгие годы, чтобы привыкнуть к его тени. Но первые несколько лет были ужасными. Однажды, когда я в очередной раз разглядывала фотографию, мне показалось, что его глаз повернулся и несколько секунд смотрел на меня, и в шуме волн я услышала его голос, который говорил мне: «Ты следующая».
– Следующая? Следующая в чем?
Брижит Боллем чуть помолчала и спокойно произнесла:
– Возможно, это вы будете следующей вместо меня, мадемуазель. Быть может, тут-то и заключен смысл всего этого. Это укладывалось бы в его логику. Возможно, его следующая жертва – вы.
– Что ты ответила? Ты поняла, что хотела сказать Брижит?
– Да, я поняла, Диеган. Прекрасно поняла. И потому ответила: «Пусть приходит». Я не боюсь его и не боюсь смерти. Я ее видела. Я вижу ее все время.
И Боллем сказала:
– Тогда он придет. Даже если он будет отсутствовать, он придет.
5
Париж, 4 июля 1940
Дорогая Тереза, дорогой Шарль!
Ни мужества, ни безумия: чтобы войти в «Лабиринт бесчеловечности», нужно отведать не адского пламени, а крови проклятых. Как я был глуп, что не узрел этого, и как я был слеп, что шарахнулся в сторону, когда центр циклона перемалывал вас.
Но гроза… В грозу пролился кровавый дождь. Я выпустил во тьму черную голубку, она вернулась и сказала мне: «Земля впитывает воду медленнее, чем кровь». Я понял: надо пить, лакать, как дикий зверь, вобрать какую-то часть в себя, если я хочу попасть в центр «Лабиринта бесчеловечности», куда я бросил вас, подверг опасности более грозной, чем рог Минотавра. Вы знаете какой… Не прошу у вас прощения, но прощаю вас. Вы не могли знать. А я не хотел знать. Теперь я вижу, я пью, я знаю. Я со своим Королем, и он диктует мне свое творение.
Все грешники, кроме тех двоих, что качаются в лодке на поверхности, будут один за другим выловлены из Адского озера. Я буду там вместе с ними, но меня никто не выловит, потому что я – это воды озера. Я буду там вместе с ними, потому что я еще и рыбак; но я отказался вкусить невинности, когда мне был предложен ее плод, если только я не забыл его вкус во время приговора Страшного суда, оглашенного заочно. Они никогда не видели меня. Так как же они смогли бы отрубить мне голову? Это какой-то безымянный бедняга, честный малый, обезглавленный на славном эшафоте, покрытый плевками. Он не кричал. Он знал (кто же он был?), что его кровь откроет двери Лабиринта. Я со своим Королем, и он протягивает мне корону, чтобы воссоединиться со своей возлюбленной.
Я вас люблю, друзья мои, я вас люблю. На нас надвигается другой Лабиринт, более бесчеловечный. Пасть в его центре, открываясь и закрываясь, поглощает все фразы книги. Он не знает, что поглощает яд. Главная книга потому и Главная, что она убивает. Кто хочет убить ее, умирает. Кто сопровождает ее в смерть, сохраняет в смерти жизнь.
Теперь я – кровавый Король, здесь, в своем Лабиринте. Пускай старые развалины