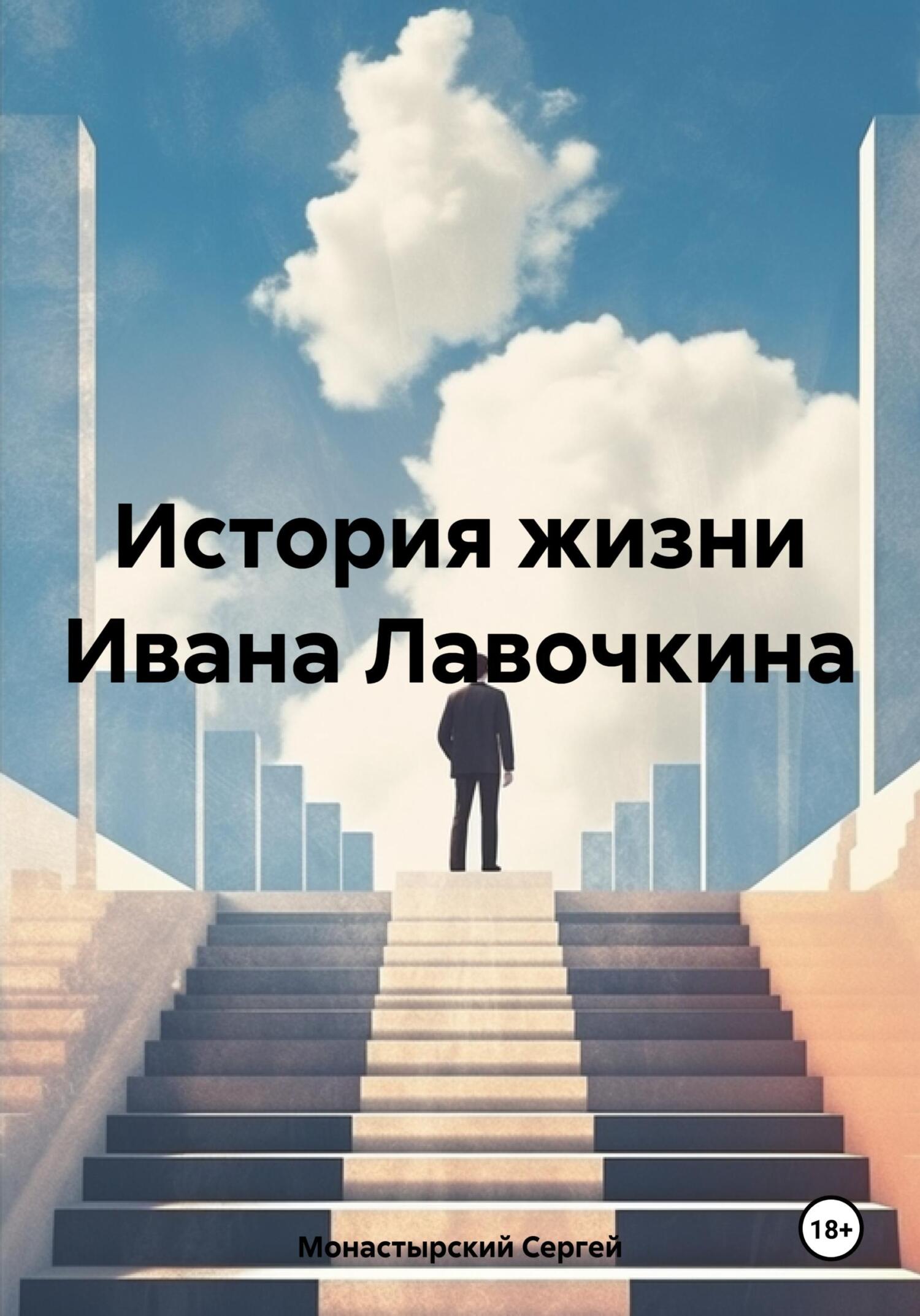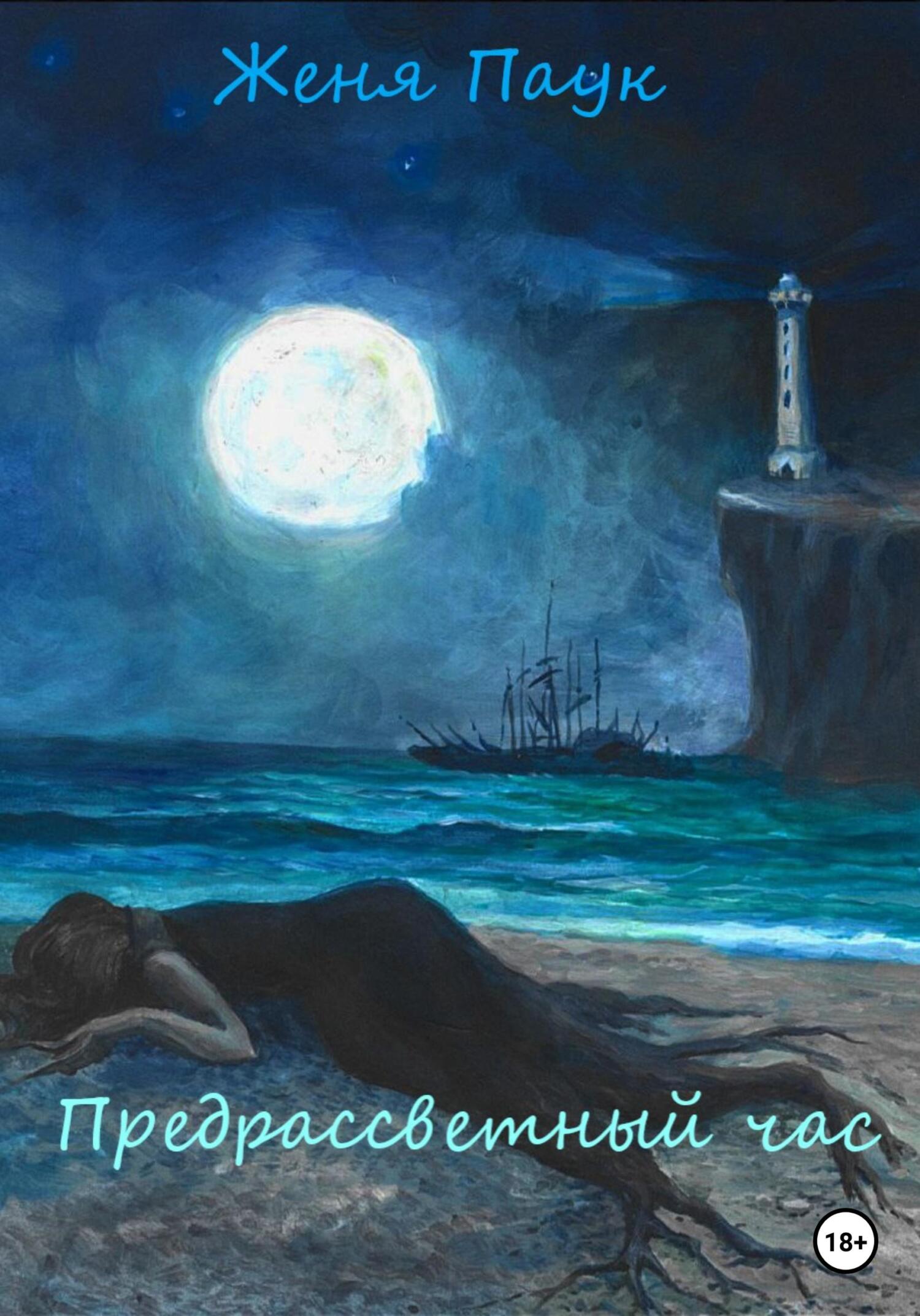чистом поле. Это были горькие слезы вины перед людьми, близкими и дальними, которым он принес в жизни столько огорчений. Это были слезы обретенного вновь мужества сердца.
1980—1984 гг.
РАССКАЗЫ
КЕКНЕЛЮ
1
— Мама, я на этот раз узнал, как называется то вино. Узнал, но нашел его не скоро. Оно — редкость, даже там, на своей родине. Красивое у него имечко — Кекнелю. А знаешь, что это такое? Сорт винограда. Голубая веточка, или, точнее, стебелек по-нашему. Черенок и листья у него голубые. Растет он в одном-единственном месте — на горе Бадачонь, на Балатоне.
Сергей щелкнул замками желтого емкого портфеля, с осторожностью вынул длинную, как кегль, бутылку зеленого стекла и, любуясь, поставил ее посередине стола, уже порядочно сервированного. Он был доволен собой — ко дню рождения матери сумел вернуться из загранки, в подарок привез красивое голубовато-серое платье — именно такой цвет любила мать, он очень шел ей. Надеялся, что потрафил. И еще вино. Пусть его попробуют гости.
Переговариваясь, мать и сын Мансуровы накрывали на стол мартовским вечером тысяча девятьсот пятьдесят второго года на московской квартире, неподалеку от площади Маяковского. Квартира на первом этаже была обращена окнами во двор, и непрестанный машинный гул Садового кольца доходил сюда умягченный, как утихающий морской прибой. Евдокия Савельевна, учительница, вдова капитана-пограничника, поселилась тут года два назад, когда ее сын, журналист, спецкор столичной газеты, со своей женой Любочкой Крушельницкой, артисткой драматического театра, получили эти две комнатки в коммунальной квартире.
Семья у Сергея складывалась не так чтобы уверенно, мать это видела. Были бы дети, все пошло бы иначе, и она считала бы себя не лишней. А Сергею уже двадцать девятый. Он понюхал пороху, уйдя на фронт на втором году войны. Раненный во второй раз на Балатоне, он был комиссован, окончил университет во Львове, откуда и привез свою артисточку. Познакомились они еще тогда, когда он долечивался в госпитале. А Евдокия Савельевна в войну и после войны девять лет прожила у сестры в городе Халтурине на Вятке, учительствовала в начальной школе.
Глядя, как Сергей осторожно и красиво переставлял тарелки, перекладывал ножи и вилки, выстраивал бутылки, мать любовалась им. Высокий, плечистый, с крупной лобастой головой, он так походил на своего отца Михаила Ипатьевича, что ей казалось, муж никогда и никуда не девался, а все эти годы жил жизнью сына. И не было той ночи на двадцать второе июня, когда их, жен командного состава, возвращавшихся из штаба отряда со смотра художественной самодеятельности, не пропустили к границе, а под утро они ощутили первый тяжкий гул земли от бомбовых взрывов.
Дуся рвалась к границе. Там был ее муж капитан Мансуров, ее любимый Миша. Там остался младшенький сын Сашенька. Ему только что минул год, и он сделал первые шаги — сам! — по земле. И мама осталась там. Как полоумная, Дуся хваталась за машины, идущие к границе. Ее уговаривали не лезть, наконец отводили в сторону.
В стареньком автобусе, куда ее посадили, были знакомые и незнакомые лица женщин, все это жены командиров, с ними дети. На восток? Удирать? Нет, нет, она не оставит мужа, сына, мать. Их бомбили немецкие самолеты, а она все не верила, что это война. И лишь тогда, когда на порядочном отдалении от границы их обстреляли вражеские танки с белыми крестами, она поверила, что случилось непоправимое, а потом узнала, что заставу мужа фашисты окружили, но несколько дней не могли ее взять. Пограничники дрались до последнего. Она не верила, что никто не остался в живых, и все расспрашивала, расспрашивала, надеясь на чудо.
…Сергей, все еще что-то переставляя на столе, заметил, как погрустнела мать. Когда что-то неожиданно напоминало ей о прошлом, она уходила в тот далекий мир, неживой, но живущий в ее сознании. С этим нельзя ничего было поделать, нечем было ей помочь. Вот и сейчас перед ним сидела худенькая, какая-то вся усохшая женщина, забывшая вдруг, что у нее сегодня юбилей, и что это к ней пришли гости, и ради нее накрывается стол. И ложным показался ему разговор о Кекнелю и секрет с подарком, привезенным из Будапешта. Если никто не может ей вернуть того, что она потеряла, то может ли что-то ее обрадовать?
Снег за окном по-вечернему заголубел, и было странно и неожиданно видеть этот чистый цвет на городском дворике, в тесном пространстве между старыми кирпичными стенами. И стены эти вдруг вызвали в памяти задымленные развалины — все, что осталось от заставы, где служил его отец и погибли он, Сашка и бабушка. Сергей сразу же, как выписался из госпиталя, поехал на границу, своими глазами еще увидел следы самого первого боя большой, только что начавшейся войны. Потом они ездили туда с матерью, и не раз. Но была уже построена новая застава. Среди зеленой лужайки с цветами у подножия стоял устремленный в небо обелиск. И на нем золотая строчка среди других — имя его отца. С того места теперь уходят наряды на охрану границы.
Мать прервала его неожиданные воспоминания:
— Ты успел заглянуть в редакцию?
Сергей понял, что она хотела, чтобы он прежде всего был исправен на работе, и, благодарно взглянув на нее, ответил:
— Меня ждут там послезавтра. С готовой статьей.
— Напишешь, — успокоила мать. — А Любочка в театре, — добавила она, и он понял, что мать волнуется, будет ли невестка на ее юбилее.
— Она чуть опоздает, а может, и нет, — в свою очередь, успокоил ее сын, и мать догадалась, что они если еще не встречались после его возвращения, то поговорили по телефону. Он ведь мог позвонить ей из Будапешта, с аэродрома и, уж конечно, из редакции. В сердце ворохнулось что-то похожее на ревность. Сказала, что Любочка волновалась за него. Он удивился:
— С чего бы?
Их отвлекли женщины, пожилая и совсем девочка, они принесли с кухни какую-то еще еду. При виде их Сергей порадовался, что у мамы гости, старые и молодые. Когда они скрылись, мать заговорила:
— Ну что тебе сказать? Ты и на этот раз не нашел ту девушку? То, что случилось тогда с тобой, не проходит бесследно. Ты ведь не маленький и сам это понимаешь. А Люба… Как ей не чувствовать?
— Ах, мам, вечно домыслы ваши женские. Неужто Люба что-то тебе говорила?
— Конечно, нет. Как ты мог подумать?
Их прервали, и они снова замолчали.
Ту девушку из балатонского селения звали Эва. При напоминании о ней он вздрагивал, будто