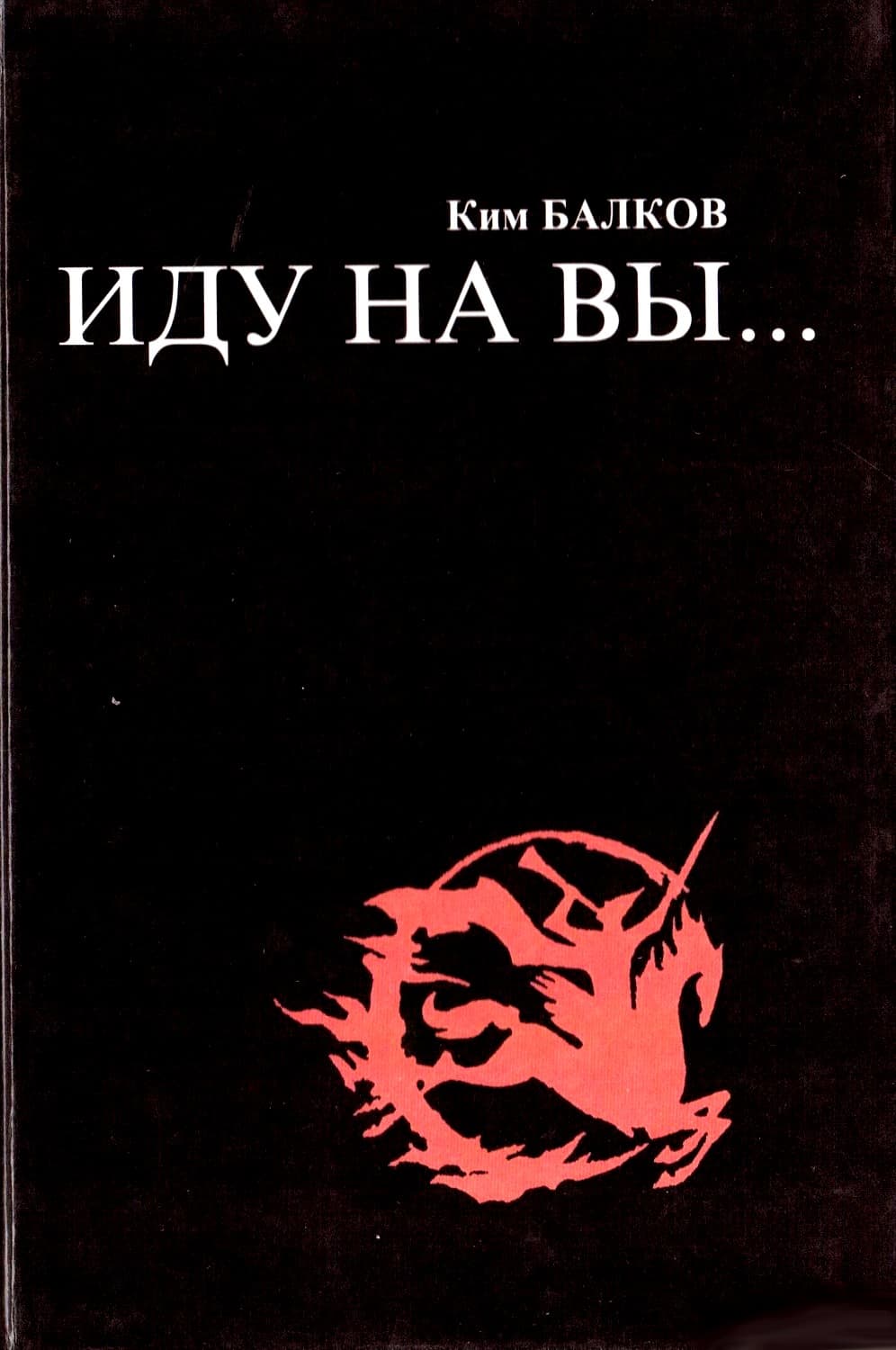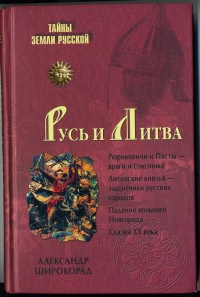ручей. Владимир вошел во чрево пещеры, глаза долго не могли ничего разглядеть в сырой, глухо обвисшей темноте, когда же пообвыклись, он медленно спустился вниз, держась правой рукой за стену и с легким недоумением, вполне объяснимым для него, хотя и не принимаемым до конца, думая про то, как тут мог многие леты жить человек. Впрочем, разве ему самому иной раз не хотелось уйти от людей, скрыться от их не всегда доброго взгляда?..
Владимир не взял с собой никого. Он уже догадался, что старого волхва нет в живых. Он думал об этом человеке с нежностью, от которой вроде бы уже отвык, ведя суровую, чаще походную жизнь. Он и сам не сказал бы, откуда в нем эта нежность? Может, причиною ее стало понимание того, что вместе с Богомилом от него как бы отодвинулась старая жизнь? Он кожей ощущал, что так и есть, и что-то ныне происходит не только в людях, а и в самой природе. Владимир подошел к тому месту, где слабо освещаемый блеклыми солнечными лучами, едва ли не сырыми, как и стены в пещере, на каменном возвышении лежал Богомил. Князь долго смотрел в худое, но дивно просветленное лицо старца, и мысли как бы даже не касаемые этой смерти, медленно и смягченно тишиной пещеры текли в его голове. И были мысли не свычные с прежними о малости человеческих деяний, но еще и про то, что и в малости есть от добра отпущенное, коль скоро высвечивает Путь, по которому надо идти людям. Да только ли людям? Или этому старому медведю, обретшему покой возле хозяина, ничего не потребно было в жизни? «Ищи в себе, — сказано в древних Ведах. — И да обрящешь истину». Так ли?.. И каждому ли, поднявшемуся на земле, по силам сей Путь? Богомил отыскал свою тропу, верно, и приблизился к небесному свету. И всяк на Руси знал про это осияние. Но многие ли поспешали за старцем?..
Владимир долго стоял близ почившего, в какой-то момент он увидел в лице старца чуть приметное беспокойство. Но, может, это показалось? Он велел закрыть пещеру, чтобы и мышь не проскочила. И отъехал.
Великий князь вернулся ко двору далеко за полдень, градские старцы поспешали встречь, и сказал кто-то про отпущенное жребием и про то, что златоусый Перун жаждет принять от людского племени… Владимир выслушал, как бы даже со вниманием и повелел исполнить волю всемогущего Бога и прошел в великокняжьи покои и до сумерек оставался там, пока не появился Добрыня, от него и услышал, что жребий пал на Феодорова отрока Иоанна. Был сей отрок зело дивен лицом и разумом высок, как и его отец, старый воин Святославов. Жили они в хоромах близ Ручая и веровали истово во Христа и не подчинились древнему свычаю.
Говорил Добрыня с досадой, впрочем, слабой, политой смущением: вот де пришел киевский люд к Феодору и сказал ему, что пал жребий на его сына и пусть ликует тот, ибо нету для русского человека большей радости, чем отдать жизнь во имя Божье.
— И да исполнится по сему, и осветится имя отрока и сделается промеж людей памятно отныне!
Но Феодор не принял сего дара, не открыл ворота и, роняя худые слова о русских Богах, поднялся вместе с сыном на сени и стоял там и смотрел на толпу. А она впала во гнев и разметала частокол и, обиженная в высшем проявлении своего чувства, не умея подняться на сени, порушила самое их основание и зажгла огонь. И был огонь силен и дерзок, поднялся высоко и скрыл от людского глаза юного отрока и отца его, воина Святославова.
Смущен Добрыня, но еще больше смущен Владимир. Он мысленно прозревал Феодора и Иоанна, смотрел в глаза их и видел там осуждение, обращенное к нему, и чувство вины начало овладевать им. Княгиня Ольга, помнится, говорила внукам, когда те упорствовали и не спешили отстать от отца-воителя, что придет время и откроется им правда, и тогда вспомнят они преклонившую колена пред Сыном Человеческим, как я вспоминаю славного князя Аскольда, уверовавшего в Слово Христово, отчего ныне на его могиле наблюдается сияние, и болящие, коль скоро чисты сердцем, на Аскольдовом холме находят исцеление. И станет им, внукам ее, горько и больно.
Так что же тогда есть истина, где истоки ее?!..
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1.
Умерла Юлия. Великая княгиня. Умерла тихо, ничего ни от кого не требуя, никому не жалуясь. Ее и хватились-то не сразу, привыкли, что она редко выходила из светлицы. А коль скоро выходила, то и тогда мало с кем общалась, про что-то неотступно думая, морща высокий смуглый лоб в тонких морщинах. Владимир не однажды намеревался поговорить с нею, но что-то сдерживало, а время спустя он отказался от своего намерения. Он был с нею мягок и терпелив, и это нередко давалось ему с трудом. В первое время он думал, что она затаила на него обиду, не умея простить ему гибели первого мужа. Но потом понял, что это не так. Она и со Святополком, единственным своим сыном, держалась ровно и спокойно, ничем не показывая особенного к нему отношения. Владимир думал, что и сын не очень-то затрагивает ее чувств, которые никому в мире не в радость, даже ей самой. Но тут он ошибался. Однажды она сказала, хотя он ни о чем не спрашивал, что все в ней принадлежит Господу, она с малых лет крепила в себе веру к Нему, и теперь утвердилась в ней, как никогда прежде.
Владимир удивился; и удивление не было ни радостным, ни горестным, скорее, ничего не несущим и противно его существу холодным. И он промолчал и, помедлив, ушел из ее покоев, чтобы уже больше никогда не возвращаться сюда. Он полагал, что Юлия хотя как-то выкажет свои чувства. Возможно ли, чтобы она не испытывала к нему ничего? Но вышло не так, как он полагал. Юлия вроде бы ничего и не заметила, и малой досады не отобразилось в лице у нее. И это вызвало в нем раздражение, которое, вероятно, время спустя усилилось бы, если бы не Добрыня. Добрыня разглядел в племяннике душевную колготу и сказал с тем особенным пониманием миропорядка, что присущ людям много чего осознавшим в жизни, но, главным образом, тщету ее и невозможность что-либо поменять, коль скоро все исходит от сердечной человеческой сущности, что не стоит