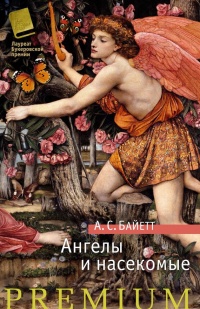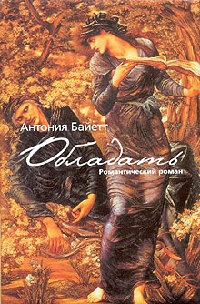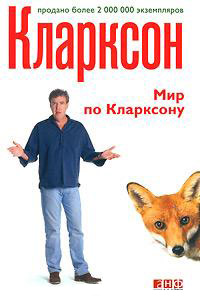— Посмотрите, пожалуйста, на меня, — обратился он к Джулиане, — посмотрите, вот так, не двигайтесь!
Кончик его карандаша застыл в задумчивости, Джулиана подняла глаза к свету, невольно моргнув, и зрачки ее в зеленоватом венчике радужки съежились. Она не хотела смотреть на него прямо, в этом было что-то против естества, хотя в его изучающем взгляде, будто снимавшем мерку с ее лица, чтоб перенести на бумагу, не было ничего предосудительного. К ее шее прихлынула густо кровь, горячим румянцем прокатилась по подбородку, по ровностям и выпуклостям щек. Подступили слезы, непрошеные и беспричинные. Джошуа заметил эту краску, прихлынувшую к лицу, и внезапную поволоку и перестал гладить бумагу карандашиком. Глаза их встретились. Какая же сложная это штука, встреча глаз, в потревоженном воздухе меж двумя неподвижными лицами, заставляющая сердце забиться и погнать кровь быстрее по жилам, подымающая волоски на запястье. Сразу делается понятно, подумал Джошуа, отчего поэты пишут о стрелах, о бросаемых абордажных крючьях. Он промолвил:
— Как же странно — посмотреть в конце концов на кого-то и увидеть, как другая душа тебе смотрит навстречу. Можно ль передать это карандашом? И откуда мы узнаём, что узрели друг друга?
Джулиана ничего не ответила, только покраснела еще гуще, еще пунцовей, до корней волос, что укрыты под шляпкой; и одна крупная слезинка перевалилась за кромку нижних ресниц, чью влажную серебристость так старался передать Джошуа.
— Эх, Джулиана. Не нужно плакать. Ну, пожалуйста. Я теперь же перестану…
— Нет, извольте рисовать. Какая я глупая. Я не привычна, чтоб глядели на меня так пристально.
— Приятно смотреть на красоту, — сказал Джошуа, сравнивая живые, переменчивые цвета ее лица со своей уравновешенной попыткой изваять это лицо из серо-серебристых оттенков.
Он отложил рисунок и кончиком чистого платка коснулся слезинки у нее на щеке. Жужжали, гудели в саду насекомые, лепетала вода; он почему-то сознавал себя внутри очарованного круга этого сада — и во все то время, что рисовал, и теперь; он повел взглядом вниз: под тугим розовым муслином — щедрые, округлые груди. Все было частью чего-то единого и живого: теплый камень, вода, косматая трава, розовый шелковый водоворот, юное обеспокоенное лицо. Он прикрыл своими руками две ручки, встрепенувшиеся у нее на коленях, как двух пташек.
— Я встревожил вас, Джулиана. И корю себя за это. У меня не было умысла.
— Не хочу, чтобы вы себя корили, — отвечала она тихо, но внятно.
— Тогда взгляните на меня еще раз. — Это словно кто-то молвил за него; а дальше случилось то самое, напасть ("Едва взглянули — как уже влюбились", — подсказал ему голос из комедии Шекспира[87]); эта напасть была восхитительной, неодолимой и тревожной. — Пожалуйста, взгляните на меня, Джулиана. Часто ли мы смотрим по-настоящему друг на друга?
Она раньше, бывало, поглядывала на него — незаметно, украдкой. Теперь же никак не могла собраться с духом. И поэтому совершенно естественным для него оказалось положить свои руки ей на мягкие, кругло-покатые плечи и пробраться лицом на самое что ни есть короткое время под поля ее шляпки и теплыми губами коснуться ее губ, как до этого касался он их на расстоянии карандашиком. Джулиане же сделалось слышно, как завертелось, заворочалось море, море собственной ее жизни.
— Джулиана, — проговорил он, — Джулиана, Джулиана. — И тут же, согретый улыбкой солнечного изваяния и как если бы наущал его некий дух, genius loci этого травистого места, прибавил: — Джулиана — это имя некой госпожи в одном из любимых мною стихотворений. Может быть, вы знаете? Писано Эндрю Марвеллом[88] и зовется "Песнь косца". Это жалоба косца Дамона.
Джулиана отвечала, что не знает, но хотела бы услышать это стихотворение. Джошуа прочел:
Моим умом я обнимал Лугов зеленых свеж овал, В зерцало гладких этих трав Смотрелся, мысль мою ж узнав, Как Джулиана вдруг пришла: Меня — как я траву — в полон, в полон взяла.
— Она была недобрая, — сказала Джулиана.
— Нам неведомо, кто она была и какая, — отозвался Джошуа. — Лишь ведомо, как действовала на косца.
Он сжал осторожно ее пальчики, пальчики ответили на пожатие. И тут же на дорожку под деревьями шумно выметнулись дети, вопя о походе в деревню.
* * *
Джулиана не сомневалась в том, что произошло. Это была любовь. Любовь, которая расцветает внезапным цветком или сражает как молния, как клюв хищной птицы; такой она описана в романах и поэмах, такой — может быть, благостной или, может, ненасытной, но неизменно действующей стремительно — представала она в жизненных историях, полнивших слух, такой разыгрывалась в ее воображении; более того, соответствовала ее естественным нравственным ожиданиям. Любовь приходила ко всем, кто не был недотрогой или излишне набожной. О себе она почему-то предполагала, что ее любовь, когда явится, окажется угрюмой и невзаимной, не готова была к стихам и поцелуям. В эту ночь она спала неспокойно, ворочалась на пыльном подголовнике, между грубыми простынями, объятая смутным пламенем, странной возвышенной мечтой, совершенно не умеющая пока переживать счастье.
Джошуа был не столь уверен в случившемся. Он также пылал этой ночью, но менее смутно — как ему и положено было пылать, сбив и скомкав постель, весь в болезненном напряжении. Он, конечно же, узнал старого херувима и назвал настоящим именем, тем же, что и Джулиана, назвал без увиливания, не роняя ни своего, ни ее достоинства мыслью примитивно-похотливой. Он вновь и вновь благоговейно перебирал в свежей памяти каждую подробность: розовый шелк, доверчивые, наполнившиеся вдруг слезами глаза, жилку, бьющуюся в прозрачном виске, мягкие уста — все, что открылось его пытливому карандашу. Но, в отличие от Джулианы, он пребывал уже под игом иного духа; ему было привычно подстраивать тело и душу под бившиеся властно волны другого внутреннего закона. Он чувствовал свою обязанность в первую очередь перед зеленым пустынным окаемом, который до сих пор прочно облегал остров его первобытной невинности. Да, теперь он желал, он любил; но довольно ли велико его желание, его любовь? Не повел ли он себя непреднамеренно бесчестно к этому юному созданию, нынче ставшему для него самым дорогим в целом мире, одетому светом, теплом, обаянием, сулившему сердечную привязанность? Ему было двадцать лет. Не имея достаточно опыта, пребывал он в смятении. И вот наконец он себе положил, что завтра будет делать то, что намеревался сделать уже какое-то время: покинет дом чуть свет и отправится в одиночестве еще выше на гору, чтобы произвести кой-какие наброски или даже попробовать писать красками. Он должен увидеть землю за пределом человеческого обитания. Джулиане же он так и объяснит — и она, разумеется, все поймет; ведь он скажет ей одну только правду, настоящую честную правду о том, что ему нужно удалиться.