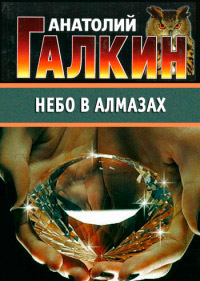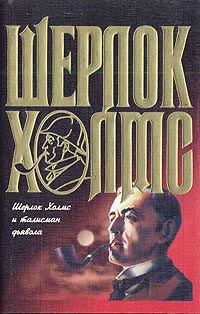Слава комиссара облегчила процесс усыновления нашего Виви, несмотря на многочисленные дыры, зиявшие в его досье. «В дыру да не низвергнется» — этот гордый девиз как нельзя лучше подошел бы семье Кампана, которая не страшилась никаких дыр: ни в Борисовом Гверчино, ни в ящичках Альвизе, ни в воспоминаниях Игоря, ни в наших сердечных делах. И только Рамиз оставался камнем в нашем огороде, брешью, которую брат, несмотря на всю свою власть, никак не мог заделать.
Она знала свое дело, эта вдова Пёрселл. Выйдя после допросов морально окрепшей, эта «Кающаяся Мария Магдалина» принялась разыгрывать из себя жертву. У нее хватило наглости подать в суд: на Корво — за Рамиза, на Энвера за партитуру, и она так ловко разжалобила судей, что вот-вот должна была бесплатно получить попечительство над маленьким певуном, которого еще недавно собиралась купить за деньги, — хорошенькое дельце! Альвизе же злился и сетовал на невезение, не допуская мысли, что Рамизу у нее может быть так же хорошо, как у нас. Комиссар ухитрился оформить над мальчиком с ангельским голоском временный патронат и каждое воскресенье забирал его из социальной службы, для которой он стал чем-то вроде эмблемы, еженедельно кривляясь для местных страниц «Гадзеттино».
Теперь уже всем было ясно, что брат с его призванием и чувством долга мог бы сам по себе составить целую энциклопедию мифологических героев. Он хотел заполучить Рамиза, чтобы насолить вдове, но заниматься мальчиком в дополнение к Виви должны были бы мы — «не все же нам бездельничать да скрести наши картины».
В хорошие деньки Венеция вывозит своих детей на свежий воздух. Проследовав вместе со всем городом процессией по запруженным дорогам, они лепят куличики из песка на пляже или собирают цветы в горах. В прошлое воскресенье — последнее воскресенье, которое Рамиз должен был провести с нами перед переселением в фонд, — Альвизе, Борис, Игорь, Виви, Рамиз и я набились в «вольво», жертвуя собой ради свершения воскресного ритуала совместного обеда у родителей в Фалькаде. После нескольких месяцев воздержания я смиренно приготовилась выслушать все их вопросы, в частности когда я наконец выйду замуж за молодого человека из хорошей семьи и подарю им внуков, а также когда я наконец пополнею, для чего мне просто необходимо взять еще кусочек жаркого, сочного, с кровью, — ну точно как шея зарезанного Волси-Бёрнса. Однако в то воскресенье у родителей только и было разговоров что про Альвизе, чудо-Альвизе, несравненного сына, слава которого стала отрадой их старости, омраченной причудами этой нелюдимой старой девы, которой ничего не надо, только бы морить себя голодом. Я и позабыла, как ненавижу Фалькаде, стоит мне только туда приехать, и почему забиваюсь в глубину сада, мечтая скатиться по склону беллунского холма прямо к себе в антресоль.
Слава богу, у единственного и неповторимого сына раскрылись наконец глаза на эту римлянку, однако ни одна девушка, пусть даже самая культурная, венецианка с проверенным происхождением, обитательница разваливающихся дворцов и наследница прабабкиных старомодных драгоценностей, — ни одна не годилась ему даже в подметки. Да и зачем нужна жена, когда детей можно грести лопатой и без всякой матери? Родители говорили это с видом стариков, несущихся к могиле, как на салазках с горы. Когда мы станем старыми и немощными, Виви и его собратья будут возить нас в креслах-каталках, как мы будем возить их, наших родителей, после того как они вернутся домой, в бельэтаж, чтобы оттуда отправиться на гондоле прямиком в склеп Кампана на кладбище Сан-Микеле.
Брат пробурчал, что похороны с гондолой стоят бешеных денег, что в палаццо нет лифта, что андрон весь в плесени, что в «большую воду» его каждый раз затопляет, что жить там невозможно, после чего мы все переругались под смеющимся взглядом Виви — все, кроме Игоря, умолявшего в это время Рамиза слезть с елки, на которой тот раскачивался, lie желая больше иметь ничего общего с сухопутными жителями, лагунные ветви древа Кампана извлекли из погреба Бориса, выбравшегося оттуда с очередным шедевром под мышкой, вскочили и «вольво» и вихрем умчались прочь.
В набитой до отказа машине ругань продолжилась с новой силой из-за огромной картины, которая заслоняла заднее стекло. Пока мы петляли по горным спускам и пробирались по забитым машинами воскресным дорогам, я убеждала дядю, что наш папа все же не настолько впал в маразм, чтобы держать в погребе в Фалькаде Караваджо.
Допустим — что на всех языках означает, что ничего мы не допускаем. А Борджанни[69], а Сарачени[70], а их караваджистский натурализм, с ними что делать? И все же это страдание, эта мощь, которые проглядывают под слоем грязи, нет, Караваджо, Караваджо, правда, Игорь? Конечно, Борис, ты ведь ясновидящий. Рамиз, мальчик мой, ты не мог бы петь свою албанскую песенку потише? О господи, ну вот, теперь Виви разревелся в своем телемагазинном автокреслице!
Выехав на автостраду, брат, не обращая внимания на дорожные знаки, подрезал несколько машин, остановился в зоне отдыха «Падуя-Север» и вышвырнул картину и нас с Борисом на асфальт.
Мы продолжили наши препирательства в «Автогриле», а Игорь тем временем убеждал Альвизе развернуться, что тот в конце концов и сделал, после чего мы доехали до дому в ледяном молчании. Только Игорь, довольный всем — и пробками, и своим дорогим Виви, и своим дорогим Рамизом, — с блаженным видом любовался пейзажами. Из всех нас он больше всех действует другим на нервы благодаря своей безмятежности, которая не изменяет ему, даже когда он перерезает кому-то глотку.
Это было обычное весеннее воскресенье. И если сейчас я вспоминаю о нем с грустью, то, наверно, потому, что нам предстояла разлука с Рамизом. С его отъездом завершалось многомесячное расследование, кончались благословенные времена, когда комиссар шел за поддержкой к своим родным, а не к этой Матильде, бойкой блондинке, коммерциалисту по специальности, которая якобы обожает Венецию и потому собирается засесть в бельэтаже. Интересно, что может девица из какой-то Виченцы понимать в Венеции?
На следующий день, в понедельник, Альвизе позвонил начальник Управления по культурному наследию Сиракуз, которого интересовала «Юдифь с Олоферном», приобретенная Борисом в ноябре, незадолго до убийства Волси-Бёрнса. Невозмутимое лицо Юдифи, державшей перед собой голову безмятежного Олоферна, напоминало нам ту спокойную уверенность, с какой Игорь расправился над своей жертвой, и Борис заверил меня, что продаст картину при первой же возможности, потому что понял, что она приносит несчастье. Он предложил ее Сиракузам по такой смехотворной цене, что там настояли на ее увеличении вдвое. Согласно каким-то источникам, обнаруженным в их архивах, Микеланджело Меризи написал ее во время своего недолгого пребывания в Сиракузах, летом 1608 года, между бегством с Мальты и отъездом в Мессину. Композиция, описанная вместе с «Погребением святой Люции», заказанным художнику городскими властями, была всего лишь эскизом, но хранители отмечали ее неоценимое документально-историческое значение.