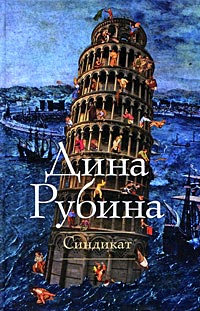— Ненависть и любовь, как известно, явления одной природы. И грань между ними бывает такой же призрачной, как между добром и злом, — ответил Полозов.
— Райад, — задумчиво произнесла Ратха, глядя куда-то на трещину в потолке.
— Что? — переспросил Люк.
— Мы живем в Райаде. Это я только сейчас поняла. Вы слышали о теории разных планетарных систем, изложенных в древних писаниях? Согласно им существуют высшие планеты, райские. И низшие, адские, демонические. Так вот Земля находится посередине. Она низшая среди высших и высшая среди низших. Получается между Раем и Адом. Вместе — Райад. От того, как мы проживем нашу очередную жизнь в физическом теле, зависит, на какой планете нам жить в следующем воплощении. Я читала, что всего планет четырнадцать.
— Получается, профессор хочет «переделать» Землю в райскую планету! — воскликнул Стивен. — Это что-то вроде перезагрузки для человечества?
— Скорее, апгрейд, — ответил Полозов.
Я посмотрел на Канту. Щеки ее пылают, а губы слегка дрожат. Видно, как волнуют ее все эти разговоры о Рае, в поисках которого мы с ней оказались в Санвилле.
— Я согласен с профессором, — сказал Мигель. — Даже вера в Бога не останавливает людей от грехов. Многие идут в церковь, чтобы выпросить у Господа прощение. А потом идут грешить снова. Или выклянчивают для себя всяких благ: денег, здоровья, любви, счастья, даже не понимая, что оно означает. Каким должно быть счастье? Какая его формула?.. Большинство людей даже к религии относятся потребительски и постоянно заключают сделки со своей совестью. Ходили бы люди в храмы, будь они бессмертны? Или если бы точно знали, что в любом случае попадут в Рай и за грехи им не гореть в Аду? Думаю, нет. Наивно полагать, что человечество может измениться самостоятельно постепенно. Для этого у него были многие тысячелетия. Изменилась мода, появились гаджеты, люди стали летать в космос и дольше жить. Но сознание по-прежнему эгоистично.
— Как же все-таки странно. Он как будто здесь поет, прямо среди нас. А его так давно уже нет, — сказала Ратха, по лицу которой текут слезы.
Imagine there’s no heaven,
It’s easy if you try,
No hell below us,
Above us only sky…
(«Представь, что нет рая,
Это легко, если попробовать.
Нет ада под нами,
Выше нас только небо…»)
— продирался сквозь шипение патефона призрак Леннона со следующей песней, неестественно растягивая слова.
— Так и есть, он здесь, — подключился к разговору я. — Как сказал профессор, Леннон превратился в голос. Но почему он не может продолжать жизнь в другой форме вечно? Если воспринимать планету как единое информационное поле, на которое записывается вся ее история, как музыка на этой пластинке, то душа человека, а значит, его память и мысли могут также быть записаны в этом поле. Пусть и без телесной оболочки. Компьютеры совершают операции по заданному алгоритму. Почему тогда человек, создавший компьютер, не может быть запрограммирован Высшим разумом, Создателем на то, чтобы жить вечно и развиваться, оставаясь энергией мысли? Душа имеет разные формы жизни. Поэт вкладывает душу в свои стихи, а, например, композитор — в музыку. Душа поэта зашифрована в буквах и словах, рифмах. Это его мысли, а значит, часть его души, оставшейся навеки на бумаге. Душа композитора превратилась в ноты, музыку, которая звучит и продолжает, как уже говорил сегодня профессор, волновать людей. Вот и Леннон сейчас здесь и голосом, и мыслями. Ты права, Ратха. Успокойся. Он здесь. Это часть его души. Статичная. Зафиксированная. Но душа как энергия вполне может существовать в информационном поле планеты или Вселенной, словно внутри гигантского вечного сервера, развиваясь дальше, — говоря это, я испытал дежавю, но тут же вспомнил, откуда пришло это ощущение. Нечто подобное я говорил в Чечне, когда мы обсуждали вопросы жизни и смерти, сидя в тесном вагончике. Зулы и Лемы уже нет среди живых. Для них наш тогдашний спор разрешен. И в Санвилле, и в Чечне, в Аду и искусственном Раю людей волнуют одни и те же вечные вопросы. Добра и зла. Войны и мира. Жизни и смерти. Смысла жизни. Смысла смерти.
— Как бы там ни было, Михаил, никому из живых никогда не откроется великая тайна устройства этого мира. Люди не готовы к таким открытиям, — сказал Полозов, — всегда будут лишь теории.
— Не всем удается оставить в чем-то после своей смерти частичку души, — сказала Ратха, слегка увеличивая громкость патефона. — Не у всех есть для этого любимое дело или талант. У меня был знакомый в Новосибирске. Он всю жизнь вырезал гайки на заводе. Одни и те же, из года в год. Потом ему надоело, и он повесился. Что же, теперь его душа в этих гайках живет?
— Не обязательно в гайках. Ведь что-то он любил, твой знакомый. Кто-то цветы выращивает. Или в детей душу вкладывает. Душа живет там, где любовь, — сказал Стивен.
— Не было у него детей. И у меня нет. И, наверное, уже не будет, — из глаз Ратхи снова потекли слезы.
— Расскажите лучше, как идет ваша работа, профессор? Вам удалось продвинуться в поисках? — обратился к Полозову Люк, чтобы сменить тему.
Полозов сделал паузу, поставил на маленький столик с причудливыми ножками стеклянную колбу, в которой еще оставалось немного манговой водки. Пластинка кончилась, но ее никто не переворачивает. Игла патефона с шипением царапает внутренний край винила. Ратха погружена в свои мысли.
— Думаю, скоро я смогу вам кое-что продемонстрировать, — сказал профессор и качнул головой в сторону двери, ведущей в лабораторию. Она закрыта, как всегда. Никому из нас еще не удавалось побывать за этой дверью. В общине ходят слухи, что Полозов никого не приглашает в лабораторию, потому что там ничего нет, кроме пары пробирок и нескольких тощих мышей, которые умирают от голода, а вовсе не в результате экспериментов во славу науки. Многие считают, что профессор специально придумал всю эту историю с геном агрессии, чтобы придать себе значимость и получать привилегии в общине. Вместе с тем Хлоя слишком рациональна, чтобы выбрасывать деньги на ветер. Наверняка Полозов время от времени отчитывается о проделанной работе. Определенно Хлоя и Дэниел бывают здесь…
* * *
Меня разбудил душераздирающий вопль. Крик доносится из леса, и можно подумать, что кого-то убивают или насилуют. Несколько секунд я вглядываюсь в темные очертания комнаты. Первые лучи рассвета упали на белые простыни, превратив их в розовые, и медленно ползут по руке Канты, которая лежит рядом со мной. Канта спокойно спит и не слышит ужасных криков.
— Й-а-а-а, й-а-а, й-а-а-а-а-а! — доносится из непроходимой чащи. Еще пару секунд мне понадобилось, чтобы понять, что кричит Крези Берд — Сумасшедшая Птица. Конечно, у орнитологов есть свое название этой маленькой длиннохвостой истерички, но здесь ее называют только так. Этот крик очень напоминает женский в момент приближающегося оргазма. Однако у птицы он какой-то неискренний. Крези Берд вполне может составить конкуренцию немецким порноактрисам. Орет длиннохвостая каждое утро в одно и то же время — с первыми лучами солнца. Начинает всегда с низкого контральто, затем, по нарастающей, переходит в меццо-сопрано и заканчивает высоким драматическим сопрано, выворачивая мои барабанные перепонки наизнанку. Затем цикл повторяется, как мелодия шарманки, пока Сумасшедшая Птица не будит все вокруг. Дикий лес оживает, наполняется рыком зверей, щебетом птиц, криками обезьян, кваканьем огромных жаб и множеством звуков, ни на что не похожих, которые существуют только в дикорастущем индийском лесу. Наконец всё сливается в общую какофонию. За те пару месяцев, что мы живем здесь, я так и не привык к этим природным концертам, и каждое утро вздрагиваю от воплей Крези Берд, возвращающей меня из мира снов в мир реальный. Впрочем, во всем есть свои плюсы — будильника у нас с Кантой все равно нет, а орет птица именно тогда, когда пора вставать.