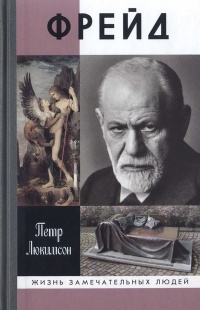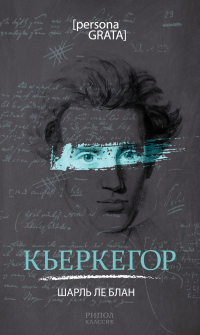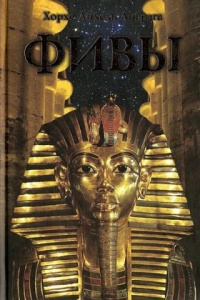«Я никогда не умел держаться середины в своих привязанностях и просто выполнять требования общества. Я всегда был либо всем, либо ничем; вскоре я стал всем. Видя, что меня чествуют, балуют особы столь значительные, я переступил границу и воспылал к ним такой дружбой, какую позволительно иметь только к равным. В свое обращение я внес всю свойственную ей непринужденность, тогда как они никогда не расставались со своей обычной вежливостью»[42].
Кризис attitude и начало репутации
Приведенная выше цитата означает, что Руссо по меньшей мере допускал, что сам он прибегает к куда как более сильным и, возможно, не совсем добросовестным средствам овладевания помыслами своих собеседников на счет своей собственной персоны. Сам он настаивал, что впечатление, которое он производит, обязано его способности покорять сердца наиболее недоверчивых и холодных собеседников своей обезоруживающей откровенностью и прямотой. Мнение это, вероятно, основывалось на отдельных удачных эксцессах, но в целом ничему систематически реальному, похоже, не соответствовало – напротив, со своей манерой Руссо постоянно попадал впросак именно там, где наиболее тщательно подготавливал стратегию сообщения. Слишком двусмысленно выраженная сердечность его высказываний то и дело оборачивалась непониманием другой стороны и даже скандалом. Так, у него было пристрастие писать послания «великим людям» своей эпохи – обычно короткие, но пафосные и, что было в его положении еще опаснее, претендующие на поучительную характеристику поступков получателя. Послания эти содержали до такой степени немыслимое количество парадоксальных определений (постигшая адресата неудача в его крупных начинаниях именовалась успехом, подобающим независимости его поступков; имеющаяся у него власть – испытанием и подлинным несчастьем; а его сильные стороны – едва ли характеризующими его «настоящую» натуру), что получатели этих писем затруднялись их воспринять уже на уровне интенции содержания и нередко видели в них оскорбление. Всякий раз Руссо удавалось переусердствовать с операцией дополнения «сердечности» со стороны «искусства выражения», тем самым снова демонстрируя скрытые опоры практикуемой им метафизической установки.
Точно так же парадоксально выглядела степень откровенности, к которой он нередко прибегал. Уверяя читателя, что в присутствии почтивших его своим гостеприимством высоких особ он и рта раскрыть не смеет и доходя до того, что предпочитал при них роль чтеца, Руссо то и дело совершал нечто такое, что выглядело почти что экспериментом. Так, именно герцогине Люксембургской в момент ее наивысшей к нему симпатии Руссо сообщает до некоторой степени позорную тайну, состоявшую в том, что весь его приплод от Терезы был помещен на содержание в воспитательный дом. В «Исповеди» он уверяет читателя, что сделал это из уважения к сердечности, с которой эта особа, как и некоторые другие, удостоившиеся точно такого же признания, общалась с ним ранее, но по существу здесь остается нечто не до конца разъясненное:
«Итак, мой третий ребенок был помещен в Воспитательный дом, как и первые; то же было и с двумя следующими, потому что всего их было у меня пять. Эта мера казалась мне такой хорошей, разумной, законной, что если я не хвастался ею открыто, то единственно из уважения к матери детей; но я рассказал об этом всем, кто знал о нашей связи: рассказал Дидро, Гримму; сообщил впоследствии г-же д’Эпине, а еще позднее – герцогине Люксембургской. Я делал это свободно, откровенно и без всякого принуждения»[43].
В одном Руссо, очевидно, не солгал: анекдот про медлительного герцога действительно оказался до некоторой степени релевантен его собственной стратегии, в которой откровенность сочеталась с рационализацией столь причудливо, что вытекающие из этого признания выступали скорее в виде подспудного испытания терпения тех, кому они были адресованы. В этом смысле всякий раз, когда чувствительные или же особо простодушные читатели заново ужасаются биографическому факту отречения от собственных детей, следует понимать, что, до какой бы степени он ни был некрасив, базируется он исключительно на слухах, пусть даже и совершенно особых, то есть пущенных самим же Руссо. По всей видимости, следовало бы отличать – хотя это почти что невозможно – текстовый источник, исходя из которого об этом факте судят читатели «Исповеди» и «Эмиля», и сам слух, дошедший до общественности своими особыми, присущими ему путями – при том, что оповещение, что слух были послан, – также оказывается вставлено в автобиографию. Скептики обычно напоминают, что достоверного доказательства реальности существования детей Руссо нет вовсе, но отсутствие документальных свидетельств, в данном случае заостряя комеражную, слуховую природу заявления, не должно выступить препятствием для разделения двух его различных источников, пусть даже они оказываются рекурсивно вставлены один в другой.
Различие между ними не исчерпывается привнесенным Деррида противопоставлением «письма» и «голоса» – например, в виде отличия «мужского» способа осуществлять свидетельство от способа «женского», хотя это противопоставление и может показаться вполне соразмерным, учитывая, что Руссо в «Исповеди» делает ставку на противоположность мужской повествовательности от первого лица всему тому, что устно разносится – обычно как раз дамами – в качестве сведений о некоем третьем лице и представляет собой обсуждение постигших это лицо пикантных перипетий[44]. Так или иначе, Руссо не удается это противопоставление выдержать, но не только потому, что «Исповедь» лжет, прикидываясь голосом там, где она на самом деле является письмом. Нельзя также упустить и то, что одновременно она претендует на эффект письма там, где ее автор параллельно запускает слухи о себе в высшее общество, в которое он вхож и которое в любом случае не видит необходимости читать утомительные писания того, кто может развлечь его беседой или сообщить о себе пикантные подробности приватно.
Прикидываясь в «Исповеди» бирюком и угрюмцем, Руссо в то же время, по всей видимости, бывая болтлив, сообщает их своему окружению во множестве, и подобное стремление к провокационной откровенности становится по мере отдаления от обстоятельств, в которых сам Руссо находился, все менее понятным. Сегодня принимается как само собой разумеющееся, что все, что может составить ценность и славу автора в обществе, куда он, по выражению Фрейда, «швыряет» свой продукт, создается и полностью исчерпывается в этом продукте. Любопытным образом именно в этой ситуации распространение получают биографии известных творцов, дотошно составляемые литераторами-профессионалами и создающие видимость небезразличия к особенностям частной жизни прославленной персоны. В то же время подлинный интерес, как правило, в этих текстах представляет лишь та часть повествования, где раскрывается, как именно и при каких обстоятельствах персона добилась значимости и преуспевания в среде, где ей было суждено оставить след.