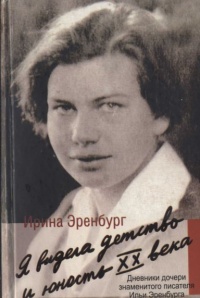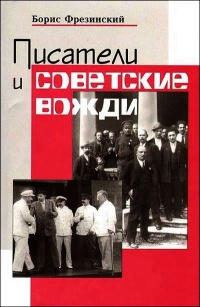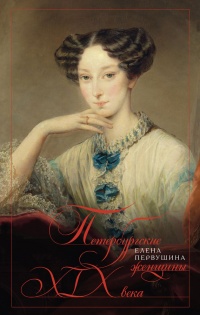Мы знаем, что ныне лежит на весах И что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, И мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, Не горько остаться без крова, — И мы сохраним тебя русская речь, Великое русское слово[409].
Эти строки написаны Анной Ахматовой в то время, когда весь мир, затаив дыхание, слушает «Ленинградскую симфонию» Дмитрия Шостаковича — композитора, еще недавно изобличенного в «формализме». В новой пьесе Симонова с характерным названием «Русские люди» утверждается, что советский патриотизм не на пустом месте возник, он уходит корнями в русское дореволюционное сознание. В романе Шолохова «Они сражались за Родину», публиковавшемся по частям в «Правде», патриотизм явно имеет антисемитскую окраску — в «братской семье советских народов», жертвы которых перечисляет автор, нет места евреям. Что касается Эренбурга, для него одного слово «патриотизм» ассоциируется со словом «Европа».
Эта привязанность к отечеству, сострадание к родине, попранной захватчиком, это единодушие имеют и обратную сторону — ненависть. Любовь к России и ненависть к немцам сплачивали измученный народ и писателей. «Убей его!», «Я пою ненависть», «Урок ненависти» — эти произведения Симонова, Суркова и Шолохова датируются 1942 годом. Эта лютая, «утробная» ненависть имеет, по мнению Эренбурга, воспитательное значение: только она одна может помешать солдатам отступать перед врагом. «Оправдание ненависти» — так называется статья Эренбурга, написанная летом 1942 года: «Теперь у нас все поняли, что эта война не похожа на прежние войны. Впервые перед нашим народом оказались не люди, но злобные и мерзкие существа, дикари, снабженные всеми достижениями техники, изверги, действующие по уставу и ссылающиеся на науку, превратившие истребление грудных детей в последнее слово государственной мудрости. Ненависть не далась нам легко. Мы ее оплатили городами и областями, сотнями тысяч человеческих жизней. Но теперь наша ненависть созрела Мы поняли, что нам на земле с фашистами не жить»[410]. Во имя мести за побежденную Испанию, униженную Францию, опустошенную Россию, нужно взращивать в себе священную ненависть — и Эренбург каждый день принуждает себя читать немецкую прессу, пропагандистские брошюры, дневники и письма немецких солдат. Позже, оказавшись вместе с наступающей советской армией в Восточной Пруссии, он добьется разрешения присутствовать на допросах пленных, каждый раз объявляя, что он еврей. Он словно загипнотизирован нацизмом — этим чудовищным гибридом, неслыханной смесью цивилизованности и дикости, которую он предсказал когда-то в «Хулио Хуренито» и которая теперь глумливо издевается над гуманистическими ценностями. Он культивирует свою ненависть, подбирает самые грубые, убийственные слова — и это обеспечивает ему настоящую всенародную популярность. «Надо поставить себя на место русского солдата, — писал Александр Верт, — который, глядя летом 1942 года на карту и видя, как немцы занимают один город за другим, одну область за другой, спрашивает себя: „До каких пор мы будем отступать?“ Статьи Эренбурга помогали каждому сохранить присутствие духа. Можно любить или не любить Эренбурга как писателя, однако нельзя не признать, что в те трагические недели он проявил гениальную способность найти точные, образные, уничтожающие формулировки для выражения русской ненависти к немцам»[411].