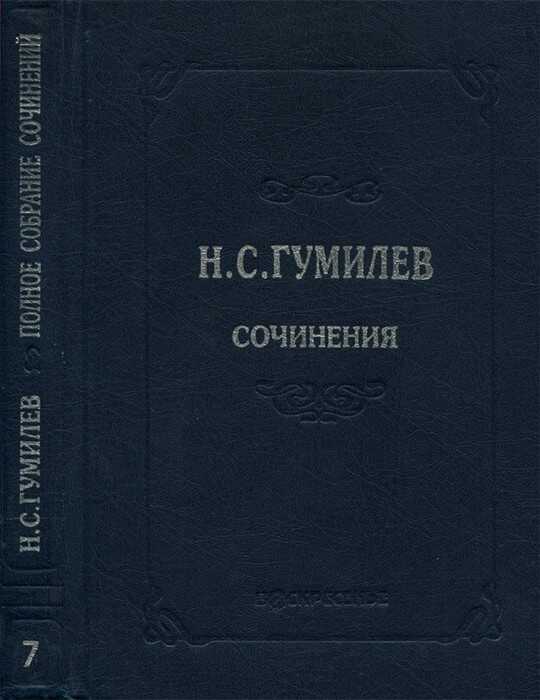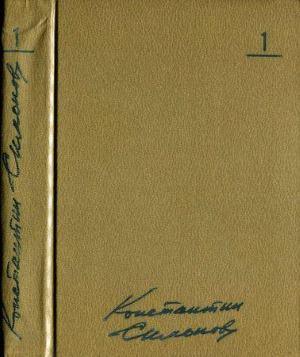“перерождения” плотски полнокровного, не чуждого никаким радостям и горестям этого мира человека в “высший тип” Человека Космического. Другими путями шли в жизни и в поэзии Сергей Городецкий, Михаил Зенкевич и Владимир Нарбут» (С. 117–118). Статья Мартынова вызвала пространные возражения Дж. Доэрти. По мнению Доэрти, совместная публикация ст-ний Гумилева и Городецкого «заставила многих комментаторов (вроде Мартынова) остановить свое внимание на полемическом аспекте, но не менее достойны внимания декларации центрального значения “итальянской темы” внутри акмеизма. Эти два стихотворения выявляют терпимость к контрастным подходам к определенной поэтической задаче, взаимозависимость и разнообразие взглядов внутри “Цеха поэтов”. <...> Мартынов совершенно справедливо обращает внимание на сосуществование небесного и земного в стихотворении Гумилева и на отказ от духовной сферы в стихотворении Городецкого, но эти стихотворения являются значительными декларациями об искусстве вообще <...>. Городецкий следует за Блоком, отвергая картины Фра Беато Анджелико, потому что в них искусство не верно природе <...>. И если на одном уровне Городецкий ошибочно воспринимает стихотворение Гумилева как символистское и антиакмеистическое <...>, то на другом уровне Городецкий, в сущности, лишь показывает степень своей собственной задолженности символизму, не оценив оригинальности стихотворения Гумилева <...>. Стихотворение Гумилева — не символистское: в нем нет стремления a realibus ad realiora. Наоборот, в нем подчеркивается равенство двух миров, умение Фра Беато Анджелико совмещать земное и Божественное <цит. ст. 36, 45. — Ред.>. Это — попытка не только прокомментировать определенные работы художника, но также воссоздать дух пре-ренессансного мировоззрения Фра Беато Анджелико <...>. Демонстративно отождествляя себя с искусством Фра Беато Анджелико, Гумилев также настаивает на его “оприродовании”: художественное пространство стихотворения определяется переходом между сферами искусства и природы, так же как и земного и небесного <цит. ст. 45–48. — Ред.>. Здесь — не столько контраст, сколько комплиментарность природы (“средь тонких тополей...”) и предметов культуры (cultural artefacts) (“И в глубине готических церквей...”); подобным образом глаголы “горят” и “спят” не противопоставляются иерархически, а гармонизируются» (Doherty J. Acmeist Perceptions of Italy // Literary Tradition and Practice in Russian Culture: Papers from an International Conference on the Occasion of the Seventieth Birthday of Jury Mikhailovich Lotman. Amsterdam, 1993. P. 109–111). Ряд исследований посвящен интерпретации последнего четверостишия (ст. 45–48), которое получало самые различные толкования: «Блок, считавший мир “страшным”, жизнь бессмысленной, Бога жестоким или несуществующим, и Гумилев, утверждавший с предельной искренностью, что “все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога”», — писал Г. В. Иванов, выстраивая своеобразные антиномии истории русской поэзии XX в. (Иванов Г. В. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. М., 1988. С. 398); «Гумилев <...> не нуждался в Италии, как в стихии латинской ясности, потому что у него была собственная ясность, ничем не возмущаемая, — продолжал эту же тему Н. А. Оцуп, видевший в ст-нии перекличку со ст-нием Ш. Бодлера “Les Phares” (“Маяки”). — Это с поразительной стройностью вылилось у него в <...> “Фра Беато Анджелико” <...> Гумилев, предпочитая славнейшим художникам Италии смиренного фра Беато, кончает свою вещь смиренными же словами: <цит. ст. 45–48. — Ред.>» (Изб 1959. С. 26). «Он (Гумилев. — Ред.) пытался, хотя и с огромным трудом, прорваться сквозь паутину романтической и эстетизированной экзотики к самой жизни. Примечательно стихотворение “Фра Беато Анджелико”, прославляющее художника, дышащего любовью к миру: <цит. ст. 21–48. — Ред.>» (Евгеньев Н. Н. Модернистские течения и поэзия межреволюционного десятилетия // Русская литература конца XIX — начала XX вв. 1908–1917. М., 1972. С. 311–312). «Весьма характерно, что Гумилев, декларировавший в своем манифесте “зрелость духа”, выступил на страницах “Гиперборея” поклонником Фра Беато Анджелико — художника средневековья, творчество которого окрашено в мистически-религиозные тона. Гумилев предпочитает этого художника даже Рафаэлю, Леонардо да Винчи и Буанаротти. Стихотворение заканчивается следующими знаменательными строками: <цит. ст. 45–48. — Ред.>» (Волков А. А. Очерки русской литературы конца XIX и начала XX веков. М., 1952. С. 464–465). «...Горение, да еще с оттенком религиозности ему (Гумилеву. — Ред.) не свойственно. С Богом у него не более благополучно, чем с Родиной. Сказать, что не верит в Бога — нельзя, он всячески старается примирить с ним свою “вселенскую душу”: <цит. ст. 47–48. — Ред.>» (Ульянов Н. И. Гумилев // Человек. 1990. № 1. С. 175). «В Бога он крепко верил, но грустил. Как просто сумел поэт выразить это чувство и мысль: “Есть Бог, есть мир. Они живут вовек, а жизнь людей мгновенна и убога”» (Плетнев Р. Н. С. Гумилев (1886–1921): С открытым забралом // Зап. рус. академ. группы в США. Т. VI. Нью-Йорк, 1972. С. 52). «...“Колчан” знаменует <...> полную духовную зрелость поэта — не только совершенство его поэтической техники. Есть нечто загадочное в том, что у Блока Италия вызвала целый ряд кощунственных, святотатственных стихотворений, тогда как Н. Гумилев именно здесь, под воздействием фресок Беато Анджелико, формулирует свое жизненное кредо:
Есть Бог, есть мир — они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога.
Но всё в себя вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога».
(Вагин Е. Поэтическая судьба и миропереживание Н. Гумилева // Беседа. 1986. № 4. С. 181).
«В определенные моменты Гумилев считает себя в силах согласовать радости неба и земли», — подытоживала результаты исследований по выявлению гумилевского акмеистического «credo» М. Малин (Maline M. Nicolas Gumilev, poète et critique acméiste. Bruxelles, 1964. P. 199). Ж. Нива, не вдаваясь в анализ собственно философской специфики ст-ния, замечал, что «наивная простота» изложения своих взглядов на сложнейшие проблемы мировидения — «весьма в духе Фра Анджелико» (Nivat G. L’Italie de Blok et celle de Gumilev // Revue des Études Slaves. 1982. № 54. P. 707). На «стилистическое» влияние живописи Беато Анджелико на Гумилева обращал внимание и Р. Д. Тименчик, утверждая, что «именно этот художник послужил, в свое время, Гумилеву материалом для аналогии между соотношением цветов и соотношением гласных <в стихе. — Ред.>. В письме 1906 года к Брюсову он комментировал строфу из своего “Каракаллы”: “<...> Здесь в первой строке долгие гласные должны произноситься гортанно и вызывать впечатление силы, а во второй строке два “е” и два “о”, произнесенные в нос, должны показать томление, являются нижним тоном и относятся к первой строке так же, как сине-голубые пятна на картинах Фра Анджелико Фьезоле относятся к горячим красным”» (Тименчик Р. Д. Заметки об акмеизме (II) // Russian Literature. 1977. № V (3). P. 287–288). В.