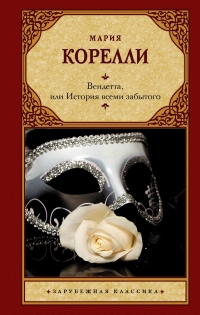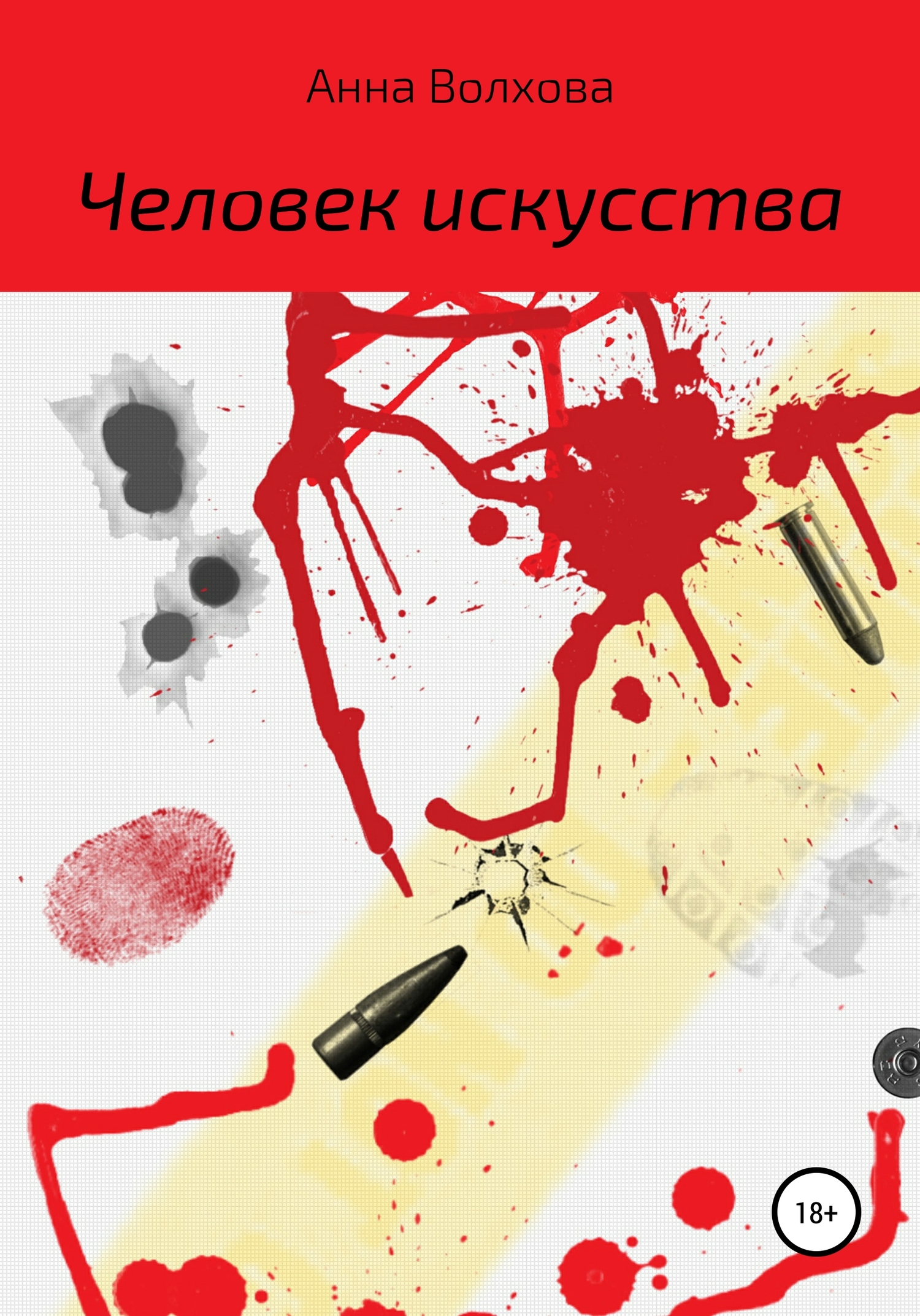не смотрю на тебя, но как я любила тебя в то миг, боже мой!
Ты понял, почему сейчас я испытываю вину перед тем рыжеватым из магазина: я обманула его. Я ужасно обманула его.
И вот сегодня, да, да, история еще не окончилась, терпение, май дарлинг, и коляски уже свиристят, и памятник Кирову, почему-то оставленный в этих кустах, сияет мокрыми выпуклыми глазами. И вот сегодня, когда троллейбус, а я так люблю смотреть из окна, как на моем перекрестке поворачивает троллейбус, и в темноте его огоньки, и пассажиры покачиваются за окнами… Море волнуется только раз, май дарлинг. И вот сегодня, когда троллейбус, утренний и золотистый от света, облупленный и по-детски неуклюжий, повернул, а сегодня утром, май дарлинг, троллейбус повернул, да, май дарлинг, повернул троллейбус, я вышла из дома, и дошла до того же самого магазина. В нем все, как всегда, возносилось и возлегало, и разноцветно дремало, и многокрасочно отдавалось взглядам и взорам, а у подножия стоял рыжеватый мальчик. И я подошла ближе, чтобы опять засмотреться. Нет, на этот раз только сделать вид, что засмотрелась на горы. А сама ловко скользнула взглядом – и не узнала его!
До сих пор мне совершенно неясно – он ли расстилал перед какой-то покупательницей красный джемпер, или то был не он, а другой… Как я ни старалась, я не могла узнать его. Я не узнавала его. Может быть, и в самом деле в магазине уже был другой, чуть похожий на того, прежнего? Или это он так изменился с тех пор, как я разлюбила его, май дарлинг?
И только смутное чувство вины, только странное чувство потери, только тайная грусть, май дарлинг.
Ты?
Нет-нет, больше никогда и ни за что, а природа всегда, точно в кино, синхронно к грусти льет дождем или параллельно к радости светит и греет… И тут все было так же с природой: первую любовь после тридцати пяти встречать полагается в первых числах августа в солнечный, но уже чуть пахнущий осенью день, даже два-три желтых листика под ногами, правда, может, и от июльской жары слетевших, но все-таки вполне к месту, и в душе тоже: два-три желтых листика вместо того разноцветного водопада зеленого фонтана голубого фронтона и чего-то там еще, то есть вместо первой любви. Однако, признаюсь, только я его увидела, поняла, что словосочетание, обозначающее фонтан зеленый и фронтон голубой, не меньший миф, чем тот мальчик, который с задней парты мне написал записку с признанием. У него были сросшиеся на переносице брови, как будто застыла в полете чайка по имени Джонатан Ливингстон.
– Дяденька, вы кто? – хотела было спросить, когда он, улыбаясь всеми, которые и раньше были не ахти, но, впрочем, я этого не замечала, мне потом подружка сказала, когда первая моя любовь лопнула, как воздушный шарик, – у него, мол, зато зубы-то не ахти… Может, оттого я в стоматологи и пошла. А в общем, какая чушь. Ну и что? Можно заплатить, и станут все тридцать два, как у звезды – той, что не на небе, а в…
– Ты? – спросил он.
– Я.
– А я тебя сразу… – И он как-то смутился. Сразу узнал? Или сразу не узнал? И тоже обнаружил что-то не ахти?
– А я тебя сразу увидел, – повторил он и продолжил: – Ты шла по той стороне, у тебя походка такая же детская, как была в школе.
– Да?
– Ты немного, извини, как медведь ходишь…
М-да, подумала я, сто семьдесят восемь моих см, плечи, плаванием увеличенные вдвое по отношению к данным так сказать, при рождении, и, как медведь, хожу…
– Но мне это всегда нравилось. – Он улыбнулся застенчиво. Так улыбаются на телеэкране олигархи, получая премию мира или орден за вклад.
– Ты где работаешь?
– Зубы выдираю, – сказала я, – стоматолог то есть. А ты?
– У меня свой бизнес. – Он снова улыбнулся. Но на этот раз не скромно и либерально, как олигарх, а жестко и саркастично, как мелкий предприниматель, которому никогда не дадут ордена за вклад.
– И чем торгуешь?
– Минералкой.
– Из крана берешь? – Я засмеялась, смягчая резкость иронии.
– Нет, иногда из скважины. – Он тоже хохотнул.
– Четверо детей?
– Нет, что ты, всего двое.
– Это не буржуазно, теперь нужно иметь две машины на одну семью, стометровую квартиру в центре, дом за городом, вклад в зарубежном банке и четверо детей.
– И те близнецы. – Он вздохнул. – А у тебя?
– Ничего из перечисленного, кроме четверых и машины.
– Детей?!
– В определенном смысле: дочь, собака, кошка и попугай.
– Стоматологи неплохо зарабатывают. – Он опять вздохнул.
– И жена должна быть с круговой подтяжкой лица.
– А муж у тебя кто? – Он как-то подергал плечом.
– Отсутствует, – сказала я, – ушел к той, у которой не как у медведя.
– Ну и дурак.
– Наоборот.
И тут вдруг он начал вспоминать, какими-то отрывками-обрывками – упавшими листочками. А вот ты, а вот я, а вот мы ого-го потом он… ты тогда на него так посмотрела я
– Что ты? – сумела вставить я.
– Ты так посмотрела и я решил ты его то есть вот такая помнишь еще листья кружились и губы были соленые у меня а ты не дала тебя поцеловать почему и красивый такой я решил что ты в него в общем оттого и…
– Оттого – что? – снова сумела я.
– Сбежал.
И тут я заметила, что над нами кружится кружится кружится чайка…
Дело, в общем, как вы поняли, было у моря.
Сомнительный
Так и соседи говорили: роди одна, ну кто на тебе женится с таким-то довеском? Только придут, увидят твою сестру – и сразу ноги в руки! Это же твой горб.
Аська не отвечала. Только глядела хмуро. И внутри эхом: горб! горб! горб!
А ведь все так хорошо и красиво начиналось: отец ведущий инженер, в то время это было и денежно, и престижно, мать певица – правда, в хоре, но хор – классический, востребованный телевидением, особенно по торжественным датам. И порой стайка одинаково чистых фарфоровых лиц появлялась непонятно откуда в волшебном окне телевизора, и медленно вытягивался серпантин движущихся губ. Губы сначала складывались в красивые перламутровые овалы, затем быстро сужались до узких черточек и вновь плавно выстраивались одинаковыми арками, завораживая Асю своей кажущейся совершенной отдельностью от поющих лиц и от жемчужных стрекоз звуков, вылетавших из приоткрывающейся и снова исчезающей темноты. И когда родной кареглазый поющий облик сначала так же медленно выплывал с одной стороны экрана, чтобы, на миг заполнив его, снова стать, удалившись, одним из многих, почти не отличимых издалека чужих хоровых лиц, Ася от неожиданности замирала и, едва сдерживая слезы, пугалась, что мать может навсегда провалиться через одну из темных эллипсовидных ячеек долгой поющей цепочки ртов в какую-то другую, старинную эпоху, как-то связанную с дочерним старомодным именем и фарфоровой статуэткой качающей головой китаянки, стоящей на потемневшем от времени, еще прабабушкином, комоде в темной родительской спальне. Отец же, хотя втайне женой гордился, увидев ее на экране, начинал нервно посмеиваться и намеренно делал вид, что никакого отношения тающая вдалеке Снегурочка к нему и к их семье не имеет. Ее светящееся появление и плавное исчезновение, наверное, пугало и его, намекая на зыбкость их с женой единения и придавая оттенок иллюзорности их общему, пахнувшему праздничным печеньем, милому быту. И вообще к чему это телевидение, говорил он, убегая на кухню и добавляя мысленно, уже обращаясь только к себе самому: не у каждого ведь