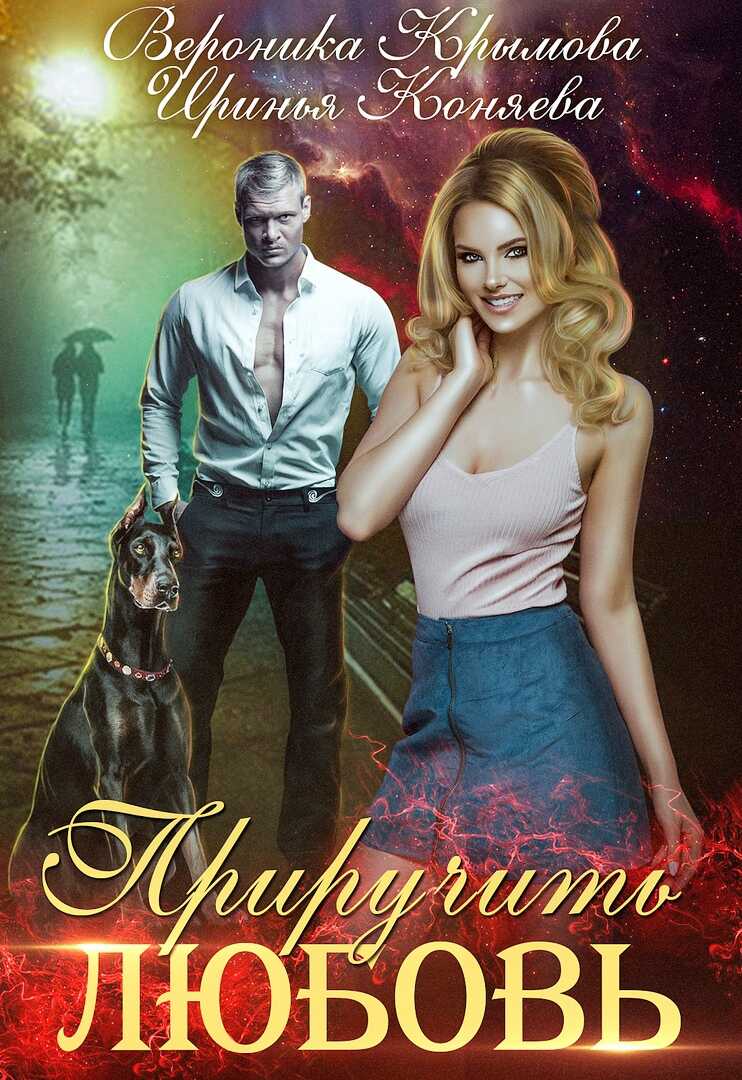чтобы отвечать на вопросы о событиях тридцатилетней давности, не может быть и речи.
Урсула берет свой бокал, покачивает его, а потом залпом выпивает.
– Грустно это слышать, – говорит она так, что поверить в ее грусть весьма сложно. – Что ж, поделом. Впал в слабоумие, говоришь?
Это выводит меня из себя.
– Не говорите так о нем! – вспыхиваю я. – Человек серьезно болен.
– Кидаешься на его защиту? Честно говоря, меня это удивляет. Учитывая обстоятельства. – Она явно наслаждается игрой в кошки-мышки, что все сильнее меня бесит.
– Послушайте! – Я говорю сквозь стиснутые зубы, чтобы мой голос звучал ниже, внушительнее. – Я забралась в такую даль ради встречи с вами. Вы сами захотели встретиться, никто вас не принуждал. Если не можете сообщить мне ничего конструктивного, то я прямо сейчас уйду и обо всем забуду. Но я не готова сидеть здесь и позволять вам играть со мной в ваши игры.
Еще не договорив, я знаю, что все испортила. Урсула собирает вещи и поднимается, слегка покачиваясь.
– Значит, нам нечего друг другу сказать. – Она открывает сумочку, кидает на стол пятьдесят долларов и почти бежит к двери, не обращая внимания на посетителей, с любопытством поворачивающих голову ей вслед.
Я сижу не шевелясь, еще не осознав случившегося. Энцо приносит пиццу и удивленно смотрит на опустевшее место.
– Ей пришлось уйти, – бормочу я.
Он пожимает плечами, как будто клиенты, не дожидающиеся еды и сбегающие, здесь обычное дело.
– Приятного аппетита, – говорит он мне и уходит.
Я больше не чувствую голода, более того, от запаха пиццы меня подташнивает. Я отодвигаю ее и тянусь за своим бокалом.
38
Восемь вечера, я уже в отеле. Здесь ничего не изменилось, в вестибюле стоит гул голосов приезжающих и уезжающих, по кафельному полу тарахтят колеса чемоданов, портье громко кричит таксисту. Постояльцы ловят по углам вай-фай, их лица озарены свечением экранов. Для них этот вечер не отличается от других, а у меня только что взорвался мир.
Меня тянет прямиком в бар, быстро проглотить два джина с тоником, чтобы заглушить разгулявшиеся чувства, но не хочется оказаться среди людей, рисковать, что кто-нибудь заведет со мной разговор.
Поэтому я сворачиваю налево, к лифтам. Двери разъезжаются почти сразу, я вбегаю в кабину и тороплюсь нажать кнопку закрывания дверей, чтобы ко мне больше никто не вошел. Кабина едет вверх, то же самое проделывает ком у меня в горле. Глаза щиплет от слез. Я кусаю губы, чтобы сделать себе больно физически и отвлечься от боли душевной. У себя на этаже я уже чувствую во рту металлический привкус собственной крови.
Шагая по коридору, я ищу ключ, чтобы не терять ни секунды у двери номера. Вхожу и захлопываю дверь так, словно за мной гонятся. Ноги подкашиваются, я падаю на покрытый ковролином пол. Больше нет смысла сдерживать слезы. Я рыдаю до тех пор, пока слюна и слезы не начинают щипать подбородок и щеки.
Постепенно слезы перестают течь и высыхают, стягивая кожу. Я сижу на полу, привалившись спиной к двери, и прижимаю к себе сумочку, словно это плюшевый мишка. Я полностью опустошена.
Следующий час-два меня разрывают на части противоречивые эмоции. Я смущена и унижена, ненавижу себя за то, что умудрилась поссориться, и так непоправимо, с единственной живой родственницей. Обязательно было ей грубить? Я проигрываю в памяти весь наш разговор и стараюсь понять, могла ли как-то смягчить ее враждебность. Обычно я спокойна, меня нелегко вывести из себя, мой эмоциональный отклик на ту или иную ситуацию спрятан глубоко внутри, там, куда никому не проникнуть. Но ее злые слова в адрес моего отца выбили меня из колеи. Даже после всего, что он совершил, в трудную минуту я инстинктивно встаю на его сторону. Урсула наверняка знает хотя бы часть правды. Впрочем, теперь это неважно. Она уже не поделится своим знанием со мной.
Я все сильнее на нее злюсь. За кого она себя принимает? Сначала устраивает встречу с пропавшей племянницей, а потом напивается, повышает на нее голос и позволяет себе непростительную грубость. Как бы отчужденно ты ни жил, грубость – это верх неприличия, особенно по отношению к чужим, в сущности, людям вроде меня.
Злость помогает преодолеть эмоциональный спад, и я встаю, расхаживаю по комнате, смотрю на уличные фонари за окном. От тоски душевной я готова опустошить мини-бар, но вовремя спохватываюсь: спиртное не поможет мыслительному процессу, а другого подспорья, кроме разума, у меня нет.
Злость выгорела, осталась только грусть, на удивление глубокая. Я горюю по утраченному шансу. Теперь я не узнаю про мать, не сойдусь с теткой, а ведь с ней, каким бы тяжелым человеком она ни была, было бы, наверное, полезно найти общий язык. Одна неуклюжая фраза – и все пошло прахом. От одной этой мысли впору опять разреветься.
Я сворачиваюсь калачиком на кровати. В окно плещет неон с неба – я не удосужилась задернуть занавеску. Надо бы раздеться и попробовать уснуть, но нет, я лежу и царапаю ногтями ожог на руке, отчего он выглядит еще страшнее.
Вибрирует мой телефон. Я бросаю на него равнодушный взгляд. В Англии сейчас раннее утро, да и вообще, кто бы стал мне писать? Если бы возникла проблема с отцом, миссис Пи позвонила бы. Наверняка это какой-нибудь спам.
Но нет, это Симеон.
Я подпрыгиваю, словно кровать вдруг раскалилась, и читаю сообщение. Оно короткое и милое.
«Как все прошло?»
Дай ему Бог здоровья! Почему он бодрствует в такую рань? Там еще только пять утра. Мне вдруг ужасно хочется, чтобы он был здесь, со мной, чтобы убеждал, что все хорошо, неважно, что моя тетка – злобная мегера, пьяная стерва, чтобы обнимал меня, плачущую навзрыд… Потом он повел бы меня к мосту Золотые Ворота, любоваться рассветом, накормил бы завтраком в симпатичном маленьком кафе. Если бы он был здесь, он бы заслонил меня, защитил от всех бед, сделал бы так, чтобы я не чувствовала одиночества и страха в стране, где не знаю ни души. Он бы терпеливо слушал, как я плачу, как возмущаюсь всей этой несправедливостью. Потом мы бы нежно, неторопливо занялись любовью, а после крепко уснули, обнявшись.
Но в моей жизни так не бывает. Я пишу такой же короткий ответ:
«Хорошо, спасибо».
39
Энни, 1986
– Ты еще не получила детское пособие за эту неделю? – спрашивает Джо, и у Энни душа уходит