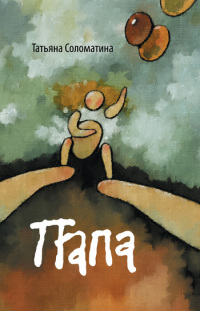– Ну и что же вы?
– Что?
– Что же вы не звоните в вашу гребаную полицию?
Он посмотрел на меня, как будто я его ударил.
– Ты… – В горле у него засвистело. – А я думал, что ты неплохой парень. Я думал, что могу на тебя рассчитывать… Я думал, мы с тобой сработаемся…
– Ноя…
– Не смей мне возражать! Не смей, понял?! – Он взглянул на часы и постучал ногтем по циферблату. – У тебя осталось пятьдесят пять минут. – Он повернулся, вошел в дом и сильно хлопнул дверью.
Я немного постоял, рассматривая дверь. Вообще-то ее следовало подновить, краска-то вон как облупилась. Я сам мог бы покрасить ее когда-нибудь – взять кисточку, глянцевые белила и провести пару часов, наводя марафет. Но было поздно. Слишком поздно. Время ускользнуло от меня, время, как скользкий уторь, вывернулось из рук, и все, что мне осталось, – пустая ловушка.
Я собрал вещи и запихнул их в рюкзак за десять минут. Закончив сборы, я остановился на пороге и бросил прощальный взгляд на свой трейлер. Постель, на которой мы с Сэм когда-то провели ночь, выглядела мертвой и пустой, стол у окна был завален битым стеклом. Окурок Спайка догорел до фильтра. Я вынул его из пепельницы, раздавил пепел на кончике сигареты и выкинул в окно. Затем подобрал с пола свой рюкзак, отнес его к мотоциклу и привязал к багажнику. Голубоватый свет телевизора, падающий из окна гостиной мистера Эванса, мерцал и трепетал на земле двора, и на секунду я увидел в комнате его тень. Затем лицо старика появилось в окне, руки сложены вокруг глаз, чтобы лучше видеть, что происходит снаружи. Я знал, что он меня заметил, возможно, даже хотел сказать мне что-нибудь на прощание, но он лишь отвернулся, отошел от окна и резко задернул занавеску. Ни «до свидания», ни «спокойной ночи». Даже не кивнул. Я понимаю, что ничего другого и не заслужил, но, когда я выезжал со двора, мне стало невыносимо грустно. Неужели я не могу продержаться на одном месте дольше нескольких месяцев? Ферма мистера Эванса – это лишь последняя точка в долгой цепи неудач, а я – самый обыкновенный гребаный неудачник, которого угораздило оказаться посреди всей этой гребаной фигни. Вот с такими невеселыми мыслями ехал я домой, ни одной приятной мыслишки в голову не приходило. Сожаления, потери и разлуки, да еще и Сэм все лежит в постели, а ее голова блуждает незнамо где, точно лодка, которую относит от причала. Сначала волны начинают играть с упавшим в воду причальным канатом, легонько дергая, проверяя на крепость, а потом лодку подхватывает течение и медленно-медленно выносит из бухты в открытое море. И вот уже за кормой вода бурлит и пенится, морщится вдоль боков, а безжалостный ветер сердито толкает лодку то в одну сторону, то в другую. Проезжая через Столи, мимо мельницы, я клял ветер на чем свет стоит и выкрикивал имя Сэм. Я кричал, и плакал, и снова кричал, и, видно, слишком плохо следил за дорогой, потому что мотоцикл вдруг повело, да так сильно, что я едва смог его выправить. За мостом я остановился, уложил байк на обочину, вошел на мост и остановился посередине реки, глядя в воду.
Река катилась под мостом черная, маслянистая, как открывшаяся в ночи дыра, и мысли мои перескочили от Сэм к Диккенсу. Если мистеру Эвансу удалось его подстрелить, если старик ранил его, например, в плечо, куда этот Диккенс мог отправиться? И где он сейчас?
Что делает раненое животное? Где прячется? Какие инстинкты подсказывают ему, что делать? Какие оно задает себе вопросы, какие дает ответы? Откуда приходят эти ответы? Может быть, их роняют сверху деревья? Или они прилетают по воздуху? И когда животное забивается в нору, какая нора ему больше по вкусу – мелкая или глубокая? Видит ли оно что-нибудь в темноте? Чувствует ли опасность или старается обмануть себя, что опасность уже миновала? Сворачивается ли клубком или в изнеможении падает на бок? Столько вопросов, но я не хотел слышать ответы. Уж слишком неясны они были, слишком серы, тусклы, невнятны.
Я посмотрел на кроны деревьев, что росли вдоль реки, и понюхал воздух. Я прошептал имя моей матери и вызвал дух ее матери, моей бабки. Конечно, я ничего особенного не ожидал, но не прошло и нескольких секунд, как я услышал шум. Когда я говоря «шум», я не имею в виду собственно шум. Это был даже не шум, а еле слышный шорох, какой издают сухие листья, когда их перебирает легкий ветер или когда луна ныряет в свое собственное отражение на воде.
Я опустил глаза вниз, взглянул на воду, но колеблющееся отражение луны вдруг застыло на поверхности воды. Я поглядел туда, где река промыла небольшую полость в песчаном берегу, и в этот момент воздух вокруг меня заледенел и мазнул по щеке холодным сквозняком. Что-то проскользнуло вдоль самой кромки воды и исчезло в тени кустов, но через секунду появилось вновь. Вначале мне показалось, что это чья-то тень. Или не тень? Нет, вроде тень. Я сделал шаг, чтобы посмотреть на ее поближе. Еще шаг. Но тут до меня долетел запах – настолько отвратительно тухлый, что меня чуть не вывернуло наизнанку. Запах гнили, разложения, смерти – как бы я его ни назвал, все будет слишком слабо. Он застрял у меня в горле, как удушливый угольный дым, и я невольно кашлянул. Тень застыла. Я тоже. Ночь вдруг показалась мне особенно темной. Ночь сама глубоко вздохнула и прижала тухлый запах к своей груди. Не знаю, сколько времени я простоял не дыша, но вдруг тень ожила и скользнула в заросли кустов, что росли на берегу. Теперь она двигалась быстро, шурша ветками, и через несколько мгновений появилась вновь, уже у края моста. Сложно вообразить такое, но вонь, казалось, еще больше усилилась. Тень уже не выглядела бесплотной, – сейчас я мог бы достать перочинный ножик, отрезать от нее кусочек и положить в карман. Хрустнула ветка, в воду посыпались мелкие камни, и на мосту я увидел нечто низкое, прямоугольное, темное до черноты. Полагаю, что я не удивился бы, даже встретив в тот момент Диккенса с кровавой раной в плече, но то был не Диккенс, – я вдруг понял, что смотрю на собаку. Вернее, на то, что когда-то было собакой. На собаку без головы. Правду люди говорили – выше шеи у нее ничего не было. Лаять она не могла. Дышать тоже. Ни смотреть, ни нюхать. Собака, шатаясь, двигалась в мою сторону, а я словно прирос ногами к мосту. Попытался сдвинуться с места, но не смог сделать ни шагу. Ноги стали чугунными, руки повисли как плети. Заплетающимся языком я пробормотал: «Иди прочь…», но даже ветер, похоже, не услышал моих слов. Я попробовал повернуть голову – не получилось. Хотел посмотреть на луну – не смог! Собака приближалась неровными скачками, и мне ничего не оставалось, как закрыть глаза и сделать вид, что это происходит не со мной. Не может происходить! Нет тут никакой собаки, я здесь стою один! Я приоткрыл глаз, но собака не исчезла – все так же трюхала по мосту, неотвратимо, как злой рок, и тут я заметил, что она к тому же хромает на заднюю ногу. Она случайно наступила хромой ногой на землю и вздрогнула, как от боли, а потом быстро поджала ее и опустила вниз безголовую шею, по привычке пытаясь обнюхать чей-то след. Ее мотнуло в сторону перил, и в этот момент меня захлестнуло чувство глубокого, безутешного одиночества. Откуда пришло это чувство? Вроде ниоткуда, но оно было настолько сильным, что на несколько мгновений я потерял и зрение, и слух. Я пошатнулся, ухватился за ветку. Она была горячая на ощупь. Тоска разрасталась, бурля, пробежала по артериям и венам и с силой застучала в закрывающие сердце клапаны. Я закрыл глаза, привыкая к ней, и застыл, слушая свое прерывистое дыхание.