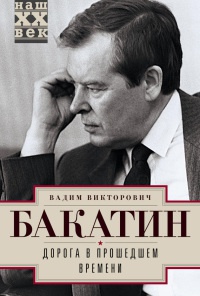Ну-ну. Синдром случайно найденного клада, закопанного в земле, на который так падки многие мечтатели.
Мне казалось, ты обещал не вмешиваться.
Я здесь всего лишь как наблюдатель, Карл Густав. Untemoin(единственный свидетель, фр.), как говорят французы. Свидетель. Конечно, я могу уйти. Но если я удалюсь, точной записи этой беседы ты не получишь. В конце концов, я твоя память и совесть.
Мне не нужна совесть.
Весьма сожалею, однако она у тебя есть. И позволь спросить: почему она тебе не нужна?
Потому что она мешает спонтанности действий.
Не смеши меня, Карл Густав! Не смеши. Совесть никогда не мешала тебе совершать поступки. Если ты и мучился угрызениями совести то исключительно задним числом. Именно поэтому ты ученый, а не философ. Психиатр, а не хирург. Ты действуешь, а уж потом думаешь. Если бы ты посоветовался со мной раньше, ты ни за что не принял бы в подарок дневники мистера Пилигрима. Ты немедленно вернул бы их леди Куотермэн. Твои суждения — по крайней мере до сих пор — всегда были эмпирическими. Я вечно опаздываю вмешаться. Но…
Инквизитор сделал глубокий внутренний вдох.
… Я твой, а ты мой. Как выразился бы наш американский друг Арчи Менкен, чьи дурацкие поговорки подчас возмутительно точно выражают суть дела, а мы с тобой два сапога пара. Кстати, обрати внимание, что твой пациент чего-то ждет от тебя. Прежде чем ты вручил ему роковое письмо, он сказал: «Дайте мне игрушку — и я ваш навеки».
Юнг сунул предательские страницы в конверт и положил его в нотную папку. Там было еще два конверта: один — с фотографиями, другой — с письмом Сибил Куотермэн. А кроме того, монография о бабочках.
Юнг вытащил последний конверт и фотографии.
Игрушки?
Да, это лучше всего. Сейчас Пилигриму нужно отвлечься.
Не читать письмо погибшей Сибил, а заняться чем-то другим. Шок от послания Джоконды может снова заставить его замкнуться, а именно этого следовало избежать любой ценой.
Юнг вернулся к Пилигриму.
— По-моему, это покажется вам интересным, — сказал он, поднося снимки к свету.
Некоторые из них, естественно, ничего Пилигриму не скажут. Нарцисс, бюст доктора Фореля, фасад дома Юнга в Кюснахте. Беременная Эмма, дети — старшая Агата с младшенькой Марианной на руках, а рядом — Анна и малыш Франц. И coбаки, Филемон и Сaломея.
Нет! Не показывай их ему. Слишком много счастливых лиц.
Когда-нибудь в другой раз. Не сейчас.
Но снимок леди Куотермэн и Пилигрима в саду — да. Только не тот, где виден серебристый «даймлер» и Отто Мор. Неужели это чистое совпадение, что снимки были сделаны как раз перед ее гибелью?
И, конечно же, бабочку.
— Я принес с собой снимки, — сказал Юнг, подойдя к Пилигриму поближе. — Я сделал их на прошлой неделе, если вы помните. Там вы с ней вместе. В саду. Он находится прямо здесь, слева от…
Не говори «клиники»!
— …здания.
Юнг перемешал снимки, как карты.
Вытащи карту. Любую. Не говори мне, что там. Положи ее на стол…
Он развернул снимки веером и предложил Пилигриму на выбор, придерживая большим пальцем фотографию бабочки. Она должна быть последней..
Пилигрим выхватил веер у него из рук и закрыл его.
Глянув вниз, он убедился, что Сибил и вправду есть на снимке.
«До чего же она прекрасна! — подумал он. — Была, есть и будет».
— Можно, я возьму ее? Только эту одну. Я хотел бы оставить ее себе.
— Безусловно. Разумеется.
Юнг забрал остальные снимки.
— На комоде есть серебряная рамочка, — мечтательно произнес Пилигрим. — Фотография женщины, которая утверждала, что она моя мать, хотя мне-то лучше знать… Она мне больше не нужна. Я сожгу ее и выброшу в унитаз.
Он поднял глаза и улыбнулся Юнгу, словно злой мальчишка, который когда-нибудь убьет своих родителей. У Юнга мороз пошел по спине. Хотя он старался не показать, как его это шокировало, ему еле удалось кивнуть в ответ.
— Потом я вставлю на ее место фотографию Сибил и буду смотреть на нее каждый день. Спасибо вам. Вы так добры! Очень добры. Вы не просто добры — вы также внимательны и заботливы. У вас проницательная душа. Вы полны сочувствия. Какое, должно быть, тяжкое бремя — так сильно любить людей! Могу себе представить… Очевидно, это чувство поглощает вас целиком. Поглощает и захватывает. Оно пожирает вас самого, почти уничтожает. Аннигилирует. Надо же! Вы совершили такой благородный поступок… Дали больному фотографии. Невероятно. Чудо из чудес. Вы — сама квинтэссенция человеческой доброты. Что же за архив вам приходится содержать? Подвалы, наполненные снимками всей человеческой расы? И каждый из них снят одним маленьким фотоаппаратом… Можно мне его увидеть? Я хотел бы как-нибудь взглянуть на него. Правда. Честное слово. Доктор Юнг и его аппарат милосердия… Подумать только! Вся человеческая раса в черном и белом…
Он говорил монотонно, спокойно глядя перед собой и небрежно держа фотографию за краешек, как носовой платок, которым мог бы размахивать светский щеголь, развлекающий гостя забавной сплетней. Но в глазах Пилигрима не было ни намека на веселье. Они превратились в узкие щелочки, а к концу диатрибы — ибо это, несомненно, была обличительная речь — закрылись вовсе.
— Зачем вы заставили меня смотреть на нее? — внезапно крикнул он во весь голос. — Она мертва! Ей это удалось, а мне — нет! Зачем вы показали мне этот снимок? Зачем?
Юнг отвел пациента к креслу и попросил Кесслера принести стакан воды.
Пилигрим сел. Вид у него был безутешный. Перевернутая фотография лежала на коленях.
Юнг отступил назад и сунул остальные снимки в карман. Он отметил про себя, что окно в комнате открыто. Казалось, именно через него хлынул поток красноречия, прервавший плотину немоты Пилигрима. Юнг не знал, что делать дальше. Почему Пилигрим не сказал ни слова о письме Элизабетты? Может, он и правда его не узнал? Или оно так глубоко похоронено в душе, что он не в силах говорить об этом?
Вернувшись, санитар подошел с подносом, на котором стояло два высоких стакана с водой, сперва к Пилигриму, а затем — к Юнгу. На войне, решил Кесслер, обе стороны страдают от жажды.
6
Надо пойти прогуляться в сад. Карл Густав на обед не приедет: он предупредил, что его беседа с Пилигримом будет в своем роде травмирующей. Именно так он выразился. Хотя, конечно же, не имел в виду травму в клиническом смысле, а просто хотел подчеркнуть, каким трудным будет общением между ним и его упрямым противником.
— Ей-богу, Карл Густав, — сказала Эмма, — ты не должен называть своих пациентов «противниками». Они тебе не враги.