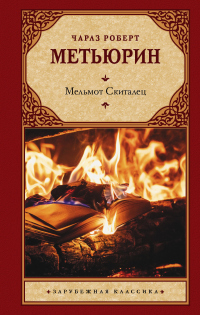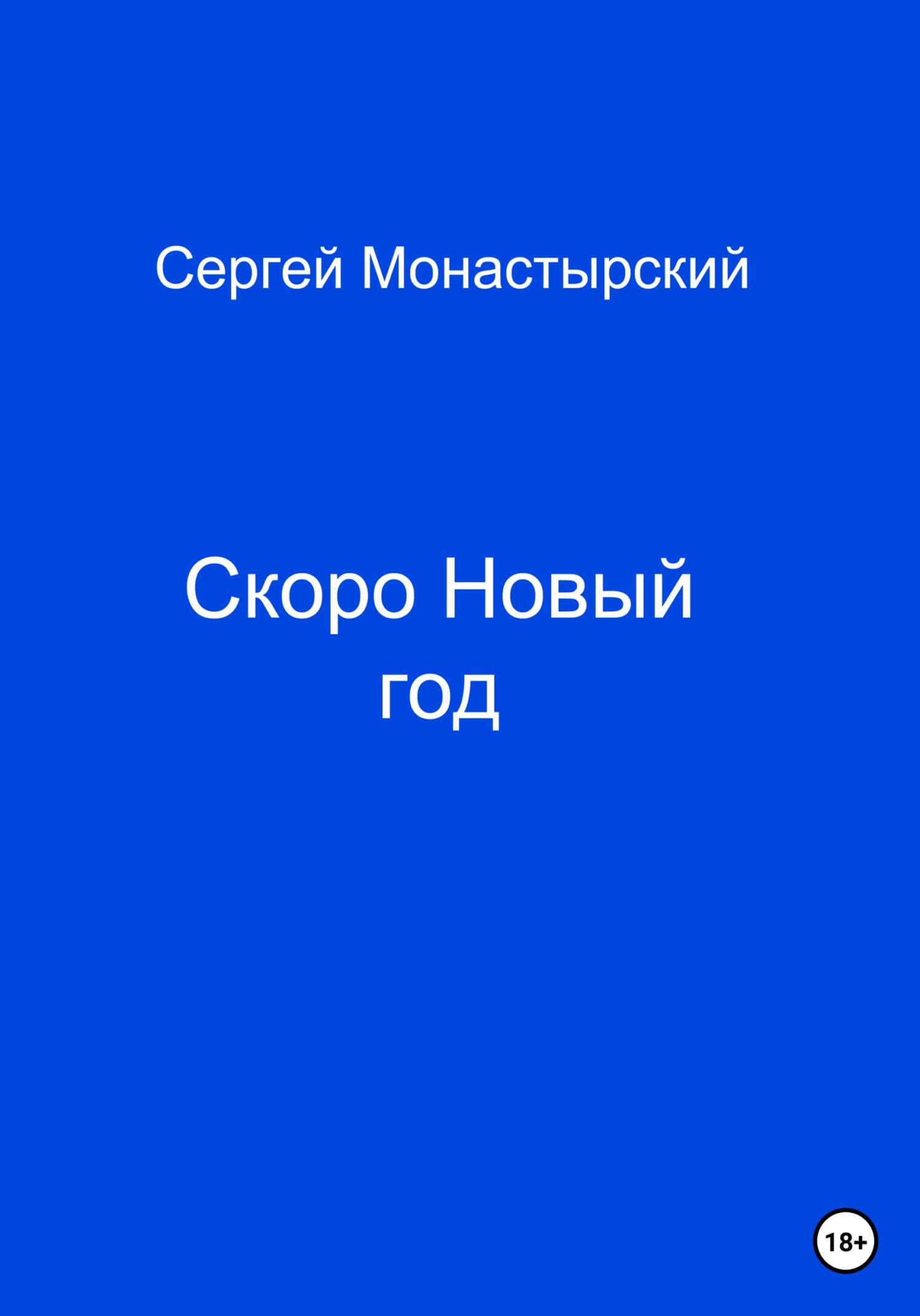старик. Он против нас не воевал.
– Я как раз здесь вчера был со второй ротой, когда госпиталь захватили. Старикашка этот на бойцов с метлой кидался, как пёс какой сторожевой. Добро буржуйское охранял. Антихристами всех лаял.
– А вот этот – доктор. От доктора какой вред?
– Интеллигент сраный. Видела бы ты, комиссар, как он наших в госпитале встретил. Зря ребята его там же на месте с офицерьём не положили. В грудь себя кулаком стучит, – я доктор Андрусевич, я всех ваших комиссаров лечил.
– И, правда, лечил, я знаю.
– А чего мне на грудь харкнул? – Мишка машинально провёл пальцами по бурке, в том месте, где вчера, видимо, висел плевок. – Офицерьё своё от расстрела спасал. Нельзя их в живых оставлять, комиссар, сами потом пожалеем.
– А раненых кто лечить будет?
– Ещё неизвестно как он лечить будет, может, после его лечения солдатики наши быстрее помирать станут. Да и что у нас фельдшеров нету?
– Я этого доктора с четырнадцатого знаю. Это тебе не фершал какой-нибудь.
– А может, он тебе родственник какой? Так – забудь! У нас одно родство – верность революции… Будешь подписывать, комиссар?
– Подпишу, но Панкрата-дворника и доктора отпустишь. Не враги они.
– Всё хочу тебя спросить, комиссар, это правда, что ты в ЧК работала?
– Ну?.. – недружелюбно глянула на него Люба.
– Так вы там пачками, говорят, людей к стенке ставили, дался тебе этот доктор? Все они, грамотные, по царю втихаря плачут. Давай по-честному – я тебе старика, а ты мне доктора. Ты со своим счёты свела, дай и мне со своим поквитаться.
Смотрели глаза в глаза. У Любы от напряжения брови занемели.
– Собирай трибунал, – твёрдо сказала она. – Будем по правилам всё решать. А за этот самосуд отвечу. Перед трибуналом отвечу.
– Ох, и горяча ты, комиссар. Ладно, будь по-твоему. – Приспособив на луке седла бумагу, Дудник послюнявил кончик химического карандаша, вычеркнул из списка дворника Панкрата и доктора Андрусевича, протянул карандаш Любе.
Она склонилась к его седлу, поставила подпись. Прежде чем вернуть карандаш, строго глянула:
– Дворника и доктора прямо сейчас отпустишь.
Дудник картинно развёл руками – в одной карандаш, в другой список.
– Какие разговоры, комиссар. Уговор есть уговор.
Вечером Люба вспомнила про лежащую у неё в кармане кожанки бумагу. Развернула перед свечой. Это было письмо Резанцева Арине Сергеевне: «Ариша, любимая моя, я долго думал о нашей размолвке…»
Люба кропотливо разбирала незнакомый почерк, а дочитала, – так разжалобилась, что капнула слезой на письмо и долго ещё сидела, завороженно глядя на колышущийся ореол свечного огонька.
Заснула она в ту ночь только под утро, уронив голову на руки, сложенные перед восковой кляксой догоревшей свечи.
Глава 39
– Я после караула отсыпался, заспанный с хаты выхожу – вижу, ведут её хлопцы, – рассказывал Диденко, торопливо шагая рядом с Любой вверх по тёмному ночному проулку. – Видать, от кого-то из мешочников про расстрел услышала. Говорю ей: не положено здеся, а она с места не сдвинется: «Пока не увижу его, никуда, говорит, не уйду, дайте хоть похоронить по-человечески…» Вона, на скамейке у колодца сидит, с копачами ехать собирается.
На звук шагов Арина Сергеевна обескураженно обернула голову. Не поднялась навстречу, не поздоровалась. Люба присела рядом с ней на холодную морозную скамейку.
– В городе неспокойно – разбои, мародёрство, поостереглись бы в такую пору ходить.
Барыня сидела, уперев локти в колени, поверх платка обхватив голову руками. Чуть слышно сказала:
– Что с меня взять.
– Это с меня взять нечего, а при вашей-то красоте…
Барыня промолчала. Где-то в тёмном палисаднике ветер хлопал неприкрытой калиткой, шуршала под ногами снежная позёмка, месяц горбился в прозрачных летучих тучах, будто по-солдатски прикуривал на холодном ветру.
В темноте за колодцем слышались голоса:
– Скажи Мерабяну, пускай лопаты выносит, да пусть посмотрит – кирка там ещё одна была возле стены.
Барыня вскинула голову, прислушалась. Деревенским жестом поправила платок, будто всю жизнь ходила повязанная, и этот жест был привычен ей с детства; решительно поднялась.
Люба взяла её за рукав.
– Погодите… Чего вам там искать? Я вашего поутру из сарая вывела… – Она твердо выдержала взгляд барыни. – До балки довела, а там отпустила.
Арина Сергеевна бессильно опустилась на скамейку, некоторое время молчала, потом снова поникла, обхватила голову руками.
– Нет, – покачала головой. – Не верю.
– Как знаете. – Люба обиженно пожала плечами. – Если умный будет, да во второй раз не попадётся, свидитесь ещё.
В густом сумраке, там, где смутно угадывались телеги, лязгнули брошенные охапкой лопаты, красными полосами вскрыли сумрак огоньки цигарок, за ними, бордово подсвечивая снизу голые ветки деревьев, всплыл фонарный свет. Барыня встала:
– Поеду.
– Езжайте… вам и вправду лучше самой убедиться, спокойнее спать будете. – Люба поднялась следом за ней, крикнула в темноту: – Чухланцев! Возьми гражданочку с собой, пусть посмотрит, если ей так хочется.
Люба стояла, слушая скрип поднимающихся в гору телег. В конце проулка телеги и фигуры людей обрисовались на фоне синего неба контрастными чёрными тенями. Люба чиркнула вслед им спичкой, прикурила папиросу и, задумчиво попыхивая дымом, пошла в противоположную сторону. По дороге остановилась возле хаты, в которой квартировал Дудник, с минуту думала, потом решительно вошла в дом. Ординарец в сенях тёр сапожной щёткой командирские сапоги.
– Слышь, Чопенко?.. – спросила Люба. – Этого, что утром в овраге?..
– Не беспокойтесь, товарищ комиссар, закопали там же на месте, никто и следа не найдёт.
У Любы отлегло от сердца. Быстрыми затяжками прикончив на крыльце папиросу, она пошла к себе.
Трофимовна заворочалась в своей комнатушке.
– С Казачихой договорилась, завтра придёт.
– Чего? – машинально переспросила Люба.
Трофимовна завздыхала, видимо, поднимаясь с постели.
– Ты дитё вытравить собираешься?
Люба остановилась на пороге своей комнатушки, растерянно почесала переносицу.
– А… ну да… конечно.
Глава 40
Зима 1923 года.
В прачечной кипели котлы с водой, пар стоял, как в турецкой бане. Смрад запаренного казарменного белья до тошноты кружил голову. Руки от стирки стёрлись до мяса, до щиплющей нестерпимой боли.
Вытирая в плечо мокрое от пота лицо, Арина упёрлась кулаками о дно корыта, едва сдерживала слезы, снова и снова вспоминая о сыне. Два дня – без кусочка хлеба. Рваные ботиночки подвязаны верёвкой, голые пальцы торчат через дырявые рукавички. Серые детские глаза недоумённо распахнуты на весь этот странный, неласковый мир. Арина не удержалась, и с кончика носа – шлёп! – в серую мыльную воду слеза… Господи, а ему-то в три года – за что?
Кто-то проходил в белом пару мимо Арины, хлестнул её по заду мокрым жгутом белья.