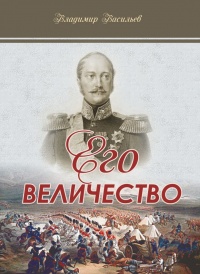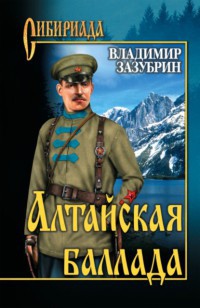числил за ним, Чернай же этого долга за собой не признавал и потому возмущению его не было предела. И что всего больнее ужалило его, уязвило в проделке Щавелева, это то, что, когда рядились, Щавелев ничего ему не сказал о долге, не предупредил, и виду не подал, что помнит за ним должок, стало быть, с самого начала коварно замышлял посмеяться над ним.
Конечно, у Щавелева, как догадывался Долгушин, в общем, могли быть основания и долг за Чернаем числить, и мстить ему. Долгушин теперь достаточно знал Черная и мог себе представить характер его отношений с Щавелевым. Не успевший жениться до той своей несчастной истории с поджогом, так и оставшийся бобылем, Чернай считался домохозяином, но фактически домохозяином не был, надел свой забросил, имущества у него не было никакого и дома не было, жил он случайной работой вроде починки телег да саней, руки-то у него в самом деле были не дырявые, или подряжался ловить крыс в церквах и шкурки продавал скорнякам. Не имея избы, не имел и постоянного пристанища, летом куда ни шло, ночевал на соседских сеновалах или под громадными лопухами, росшими на месте сгоревшего дома, зимой было хуже, кочевал из избы в избу по родственникам, близким и дальним, кто приютит на ночку-другую, или напрашивался за кров и пропитание в работники к местным богачам, к бывшему своему помещику или к Щавелеву. К богачам он обращался за разными одолжениями и в другие времена года, за рубликом в подать отдать, за мучицей ли. Он, конечно, отрабатывал и мучицу, и рублики, но как считать? — у него был свой счет, у барина или Щавелева свой, и расставались они после расчетов всегда недовольные друг другом. Чернай, убежденный в том, что обманут, мстил барину и Щавелеву тем, что поносил на чем свет стоит «мироедов» и «кровососов» по кабакам, на сельских сходах. Когда же, прижатый обстоятельствами, вынуждаем был снова обращаться к «кровососам» за одолжениями, наступала их очередь мстить «горлопану». И мстили: заставляли себя попросить, поваляться в ногах, или устраивали сюрпризы, вроде того, какой устроил теперь Щавелев. До сих пор Чернай переносил эти мытарства не то что легко, но не слишком болезненно, теперь, похоже, наступил для него «край».
Появлению Долгушина в Ильинском он обрадовался, увидев в этом для себя хороший знак. Тут же определил ему место в вынашивавшемся им плане мести Щавелеву. Долгушин своей грамоткой звал мужиков бунтовать? Ну так он, Чернай, взбунтует мужиков близлежащих деревень против мироедов. Мужики, с которыми он уже вошел в стачку, поднимутся все, как один, им нужно лишь показать пример, чтобы кто-то первый начал: «Ты начни, а мы поддержим». И вот он придумал, как начать. Он пустит пыхом змея Щавелева, и все подымутся. Не слушая никаких возражений Долгушина, Чернай объяснял ему его задачу: на какой-то ярмарке в Одинцове или еще где-то, Чернай говорил быстро, понимать его было трудно, должен Долгушин открыто прочесть свой призыв к народу... На этом месте разговора Долгушин, которому наскучил этот бред, остановил Черная, положив руку ему на плечо, посоветовал лечь спать и все забыть, и уехал. Если бы он знал, какие последствия будет иметь этот разговор с Чернаем, он, конечно, не спешил бы уезжать...
Пытался Долгушин навести речь Черная на Игнатия, хотелось все же выяснить причины их вражды и как-то помирить их, но всякое упоминание об Игнатии вызывало новый приступ ярости Черная. Только и удалось, что убедиться: Чернай ставил в вину Игнатию помимо прочего то, что тот будто бы помогал каким-то образом Щавелеву за особое вознаграждение держать в кулаке других крестьян в округе, между прочим, и тех, которые входили в его плотницкую артель и которых он будто бы безбожно обсчитывал. Это, конечно, было полнейшим вздором. Игнатий был честен, для Долгушина это было совершенно очевидно. Игнатий сам был жертвой паука-Щавелева, и если не отзывался о Шавелеве дурно, то это еще ничего не значило. И сомнения Игнатия в спасительных возможностях равенства, его своеобразное понимание роли и значения богатства, тоже еще сами по себе ничего не значили. В окружавшем его мире не мог он видеть иных примеров обогащения людей, как обогащения неправедного: богатства создавались одними людьми за счет других, одни люди объедали других. Это ему, человеку от природы справедливому, не могло нравиться, и поэтому мысль о возможности увеличить общественное богатство через уравнение людей привлекла его, но он не в состоянии был так сразу разделить уверенность Долгушина в том, что эта возможность реальна, что это не сказка.
Повидаться же с Игнатием до отъезда в Москву Долгушин не успел, решил, что повидается после Москвы.
8
В Москву укатили все вместе, правил Долгушин, ехали весело, с песнями, как ехали из Москвы в Сареево три недели назад, только теперь вместо Татьяны, оставшейся с Аграфеной на даче, в тележке сидел Ананий.
Вместе заехали к Кириллу Курдаеву, в его новую мастерскую, поделили прокламации между собой и разошлись каждый по своим делам, решив к вечеру собраться у Далецкого и там заночевать, а утром отправиться по своим маршрутам.
Из мастерской Долгушин уходил последним, его задержал Кирилл, попросивший проверить какие-то счета. Держал себя Кирилл не совсем обычно, много говорил, суетился, видно было, хитрил, что-то ему нужно было скрыть от Долгушина. В счетах его был порядок, мастерская устроена, в мастерской теперь было вдвое больше рабочих и все были заняты делом, недостатка в заказах не было, но Кирилл все говорил о каких-то трудностях, нехватке того, другого. Что-то ему нужно было от Долгушина, но прямо об этом сказать не решался. Так когда, спросил Долгушин, можно будет прислать к нему пропагандистов? Пока нельзя, отвечал Кирилл, вот когда он справится с трудностями, освоится на новом месте... Разбираться со всем этим, однако, было некогда, Долгушин сказал, что заедет через несколько дней.
Вечером, когда сошлись у Далецких, еще раз обсудили маршруты каждого, решив задеть пропагандой и южные уезды Московской губернии, туда через Подольск на Серпухов вызвался пойти Дмоховский. На восток от Москвы на Егорьевск через Люберцы наметил идти Плотников, на запад к Можайску и дальше — Папин, Ананию предложили пройти на север по Петербургскому шоссе до Клина и поворотить к Волоколамску. Долгушин должен был вернуться в Сареево оканчивать дела, начатые им в Звенигородском и соседних с ним Рузском и Волоколамском уездах, и затем действовать по обстоятельствам.