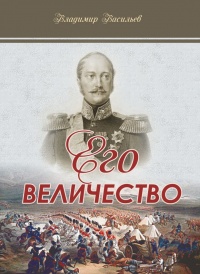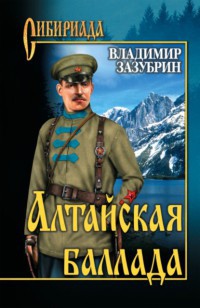из бедности выскочит ли? Как выскочить из бедности без богатых-то? Земли не много десятин надо, чтобы с нее мужику с семейством прокормиться, а боле того что не наработать, ежли своим трудом без помочи, боле того не осилить, земли-то, никак нет. Обратно, земля отощала, как ее подымешь без капиталу? Вот ты говорил, машины какие ни то будут создавать богатства, когда, значит, будет обчее равенство. Как же то может-то быть? Коли не сказка то?
Вот тот вопрос, которого ждал Долгушин, ответить на который теперь готов был подробнейшим образом, давно готовился к этому, ожидая встречи с этим думающим крестьянином. Хотелось сказать ему примерно то же, что однажды развивал перед сареевскими мужиками, на дворе Ефима Антонова, когда растолковывал им, как могли бы крестьяне подняться, — и о роли народного государства в этом деле, его помощи крестьянам, и о самом государстве, каким должно быть оно по мысли социалистов, когда не только земля, но и заводы, и фабрики, и всякая крупная собственность, и все капиталы будут принадлежать работникам, и о совместном артельном труде, о творческом начале жизни, которому необходимо дать простор. Очень важным казалось именно Игнатию изложить все это. С ним можно было и более откровенно говорить, чем с сареевскими. Важным казалось знать, как примет все, поймет ли, проникнется ли новой правдой этот рассудительный крестьянин. Казалось, что, не дойдя до самых сокровенных мыслей, желаний, крайних пределов понимания крестьянами своей собственной пользы, невозможно идти далее в пропаганде.
И начал уж было отвечать, и, чувствовал, недурно начал, зацепил внимание Игнатия, заговорив о том, каким должно быть государство, чтоб была польза мужику... и вдруг все испортил Чернай.
Все испортил Чернай. Он начал кипеть, заметил Долгушин, еще когда говорил Игнатий, в середине его речи, зацепившись за сомнение, выраженное Игнатием в отношении возможностей равенства, и уж больше не слушал ни Игнатия, ни Долгушина, весь погруженный в свое раздражение; упустив момент, когда умолк Игнатий и начал говорить Долгушин, когда мог бы врезаться в разговор, он ждал паузы в разговоре, чтобы выступить со своим. И дождался.
— Кой ляд, Василич, ты толкуешь кому, нешто энтот тебя услышит? — начал он яростно, выпрямившись в струнку, воинственно выпятив вперед нижнюю губу, смотря на Игнатия в упор, презрительно и высокомерно. — Энтот и иные все оборвихинские куплены каждый по рупь с пятаком Щавелевым и его одного слышут. Ты, Василич, зря время теряешь здесь, нашел, где мужицкую нужжу высматривать. Ты поди к нам, в Ильинское, поди-ко, увидишь нужжу...
— Приду, — поспешно согласился Долгушин, обеспокоенный тем, как бы этот пассаж Черная не повредил всей беседе. — Да ведь ты теперь здесь живешь? У Щавелева?
— Завтра уберусь отсель. Вишь, подрядился у окаянного за три рубли санки поправить, к зиме готовится с лета. А я по санному али тележному делу первый человек здесь. Хотя он тебе скажет, — ткнул он пальцем в сторону Игнатия. Обращаясь к нему же, ядовито и с возрастающим раздражением продолжал. — Может, и тебе нужжа поправить сани али телегу? Ты скажи! Поправлю. По свойству али за шиш с маслом, энто тебе боле по скусу? Вот я тебе поправлю! (Показал ему кукиш и даже плюнул в его сторону.) Тьфу!
Игнатий смотрел теперь на Черная тоже в упор и тоже, чувствовалось, наливался яростью, но еще пытался сдерживаться. Ответил презрительно:
— Обойдемся без голоштанных, — и не удержался, прибавил не менее ядовито. — Вищь, как тебя распирает. Совесть, должно, заговорила, не всю, знать, оставил в кабаке...
— У тебе ее много осталось. Снега зимой не проси...
— А тебе только просить. Ты заработай! Похвастал трешницей. Ты ее сперва получи...
— Ты мои деньги не считай, ты свои сочти, какие иудины от Щавелева, какие скрадены...
— У мене! Скрадены! Ты в уме?
— У тебе...
Они оба уже стояли на ногах, взвинченные, злые, поносили друг друга невозможными словами, возводили один на другого неправдоподобные обвинения, не стесняясь присутствием постороннего человека. Теперь обнаружилось, что причиной их вражды были и какие-то старые личные счеты, и какие-то не вполне улавливаемые Долгушиным двусмысленные отношения обоих крестьян к Щавелеву. Ясно было, однако, что беседа безнадежно испорчена, мысль свести вместе этих крестьян оказалась неудачной, и нужно было положить конец этой встрече.
Но пока Долгушин соображал, как удобнее это сделать, чтобы не обидеть ни того ни другого, произошло неожиданное.
На каких-то едких словах Черная Игнатий вдруг схватил его под мышки, оторвал от земли и понес через весь двор к воротам. Чернай задыхался, вертел головой, сучил ногами, но Игнатий его не отпускал, донес до ворот, вынес на улицу, поставил там на землю и, сильно толкая в спину, погнал по улице. Доведя до края своего плетня, двинул так, что тот не удержался на ногах и растянулся во весь рост на колдобистой пыльной дороге. Игнатий вернулся к себе на двор.
Продолжать с ним разговор было, конечно, бессмысленно, Долгушин сказал, что придется им еще раз повидаться, чтоб окончить разговор, Игнатий ничего на это не ответил, они попрощались, и Долгушин уехал.
7
Постепенно разошлись-разлетелись по деревням, по всему Звенигородскому уезду и примыкавшим к нему другим уездам прокламации, которые были у пропагандистов на руках в Сарееве, и остались только те, которые хранились в Москве у Кирилла Курдаева. Решили ехать в Москву, поделить оставшиеся брошюры и разойтись по новым маршрутам, подальше на север и на восток от этих мест. Опасно уж было оставаться здесь. Если местная власть еще не всполошилась, не проведала о том, какие листки ходили по деревням, передавались крестьянами из рук в руки, по вечерам читались вслух деревенскими грамотеями при свете копеечных масляных коптилок, то потому лишь, что раздавали распространители свои листки не кому попало, раздавали с выбором. Но теперь всего можно было ожидать.
Перед отъездом в Москву побывал Долгушин у Черная в Ильинском, но эта встреча с ним вышла вполне никчемной. Был Чернай уже невменяем, в крайней степени раздражения, не слышал, что ему говорили, был сосредоточен на одном предмете — на Щавелеве. Оказалось, как понял Долгушин из яростных монологов Черная, при расчете с Щавелевым за ремонт саней получил он от Щавелева всего рубль, а два рубля тот удержал с него в счет долга, который